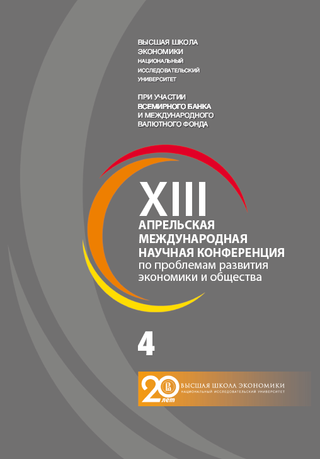?
XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 4.
Сборник составлен по итогам XIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, организованной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда и проходившей 3–5 апреля 2012 г. в Москве.
Рассматриваются политические процессы, вопросы государственного управления, проблемы мировой экономики, экономическая история и методология экономической науки, а также инструментальные методы анализа социальных и экономических процессов.
Для экономистов, социологов, юристов, политиков, а также студентов, аспирантов и преподавателей вузов. Книга может быть полезна всем, кто интересуется проблемами и перспективами реформирования российской экономики.