?
Взаимоотношения корейцев в СССР с корейским национально-освободительным движением (1920-1930)
С. 3–37.
Язык:
русский
В книге
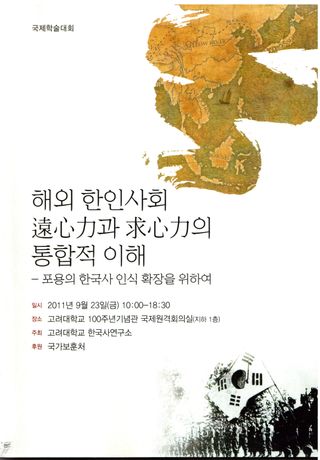
Seul: ., 2011.
Сон Ж. Г., В кн.: Корейская диаспора в Центральной Азии: история, культура и социальная жизнь. К 85-летию проживания корейцев в Центральной Азии: материалы 1-й Международной конференции по корееведению Университета Пучон в Ташкенте.: Ташкент: Университет Пучон в Ташкенте, 2024. Гл. 1 С. 10–18.
Доклад посвящён анализу архивных материалов и документов Архива внешней политики Российской империи о миграции корейцев в Россию и о российско-корейских отношениях с 1864 по 1918 гг. На основе большого фактического материала раскрываются особенности миграционной политики российского правительства применительно к корейцам на Дальнем Востоке. Показан механизм выстраивания отношений с мигрантами из Кореи, их обустройство в Приморье, ...
Добавлено: 16 июня 2024 г.
Ташкент: Университет Пучон в Ташкенте, 2024.
В сборнике представлены тексты докладов и материалы участников 1-й международной конференции по корееведению Университета Пучон в Ташкенте «Корейская диаспора в Центральной Азии: история, культура и социальная жизнь. К 85-летию проживания корейцев в Центральной Азии». Среди докладчиков – известные исследователи по корейской диаспоре СНГ из Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, России, США, Таджикистана, Узбекистана, Южной Кореи. Доклады представлены ...
Добавлено: 16 июня 2024 г.
Сон Ж. Г., The Review of Korean Studies 2023 Vol. 26 No. 1 P. 173–208
Аннотация: В конце 1920-х годов Советский Союз развернул официальную кампанию против так называемого «великорусского шовинизма». В результате партия большевиков перешла в беспощадное наступление на это явление. Решения, связанные с поддержкой национальных меньшинств, принимались на государственном и региональном уровнях во всех регионах страны. Советская политика коренизации и непродуманная политика переселения населения способствовали росту национализма. Переселение проводилось ...
Добавлено: 19 июня 2023 г.
Ким Н. Н., Вестник Пермского университета. Серия: История 2022 Т. 57 № 2 С. 166–178
В результате Первомартовского восстания, охватившего колониальную Корею весной 1919 г., в Шанхае было создано Временное правительство Республики Корея. Одной из главных задач Временного правительства было достижение международного признания и получение финансовой помощи для реализации антияпонского сопротивления. С этой целью оно попыталось установить контакт с Советским правительством, выразившим поддержку национально-освободительному движению корейцев против японского империализма. В ...
Добавлено: 30 октября 2022 г.
Гришачев С. В., Электронный научно-образовательный журнал "История" 2020 Т. 11 № 12(98) Часть 1 Статья 7
Статья посвящена сопоставительному анализу современных национальных идентичностей в России и Японии и тому, какую роль в них играют факты совместного исторического прошлого ХХ в., а также влиянию этих фактов на формирование коллективной памяти. Укрепившиеся в обществах обоих государств взгляды на события Второй мировой войны разнятся довольно сильно, и обе стороны имеют друг к другу взаимный ...
Добавлено: 12 февраля 2021 г.
Ким Н. Н., Тен В. А., Проблемы Дальнего Востока 2020 № 4 С. 164–179
Вторжение Японии в Маньчжурию в 1931 г., последовавшая за этим война между Китаем и Японией привели к массовым перемещениям населения в регионе. Сотни корейских иммигрантов, проживавших в Маньчжурии, участвующих в антияпонском сопротивлении, cтали перебираться на советскую территорию. В СССР они были депортированы из Дальневосточного края в глубь страны. В статье на основе ранее не опубликованных ...
Добавлено: 30 ноября 2020 г.
Сон Ж. Г., В кн.: XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки: К 150-летию академика В. В. Бартольда (1869-1930)Т. 1.: СПб.: Студия НП-Принт, 2019. С. 227–229.
Впервые в российской историографии представлен обзор литературы на корейском языке, изданной на советском Дальнем Востоке. Разнообразный и широкий спектр книг, располагает к научному анализу как исторических источников о развитии корейского языка, культуры и образования корейских мигрантов на территории Союза ССР в период становления советской власти и корейской общности (советских корейцев).
В Российской государственной библиотеке в Восточном ...
Добавлено: 27 июня 2019 г.
Сон Ж. Г., Историческая и социально-образовательная мысль 2017 Т. 9 № 1 С. 65–72
Автор обратилась к слабо разработанной в российской и зарубежной историографии теме о сотрудничестве СССР и КНДР в области образования в 1946–1950 годах. В 1946 году до создания государства КНДР (1948) было положено начало тесному сотрудничеству этих стран. После освобождения Корейского полуострова из СССР в Северную Корею с целью оказания помощи в восстановлении экономики страны на ...
Добавлено: 29 сентября 2017 г.
Цой Г., Лебедева Н. М., Татарко А. Н., Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика 2017 № 3 С. 101–107
В статье рассматриваются культурно-содержательный аспект индивидуальных ценностей и социально-экономического представления в Южной Корее и России. В исследовании приняли участие 157 корейцев и 211 россиян. Результаты показали, что значимые различия обнаружены в ценностях по Ш. Шварца: Самостоятельности (мысли и поступки), Стимуляции, Достижении, Репутации, Конформизма (правила и межличностного), Традиции, Благожелательности (чувства долга и забота) и Универсализма - ...
Добавлено: 23 сентября 2017 г.
Сон Ж. Г., В кн.: Миграция корейцев на русский Дальний Восток: российско-корейские отношения. 1821-1918 гг. Документальная история.: М., Тула: Аквариус, 2017. С. 35–78.
Статья посвящена анализу архивных материалов и документов Архива внешней политики Российской империи о миграции корейцев в Россию и о российско-корейских отношениях с 1864 по 1918 гг. На основе большого фактического материала раскрываются особенности миграционной политики российского правительства применительно к корейцам на Дальнем Востоке. Показан механизм выстраивания отношений с мигрантами из Кореи, их обустройство в Приморье, ...
Добавлено: 23 сентября 2017 г.
М., Тула: Аквариус, 2017.
В книге впервые публикуются документы Архива внешней политики Российской империи о российско-корейских отношениях (1820–1909гг.), о добровольном переселении корейцев в Приамурье в конце XIX– начале ХХ веков. Также сборник содержит, публиковавшиеся ранее, документы и материалы Российского государственного исторического архива Дальнего Востока (1864–1918гг.). Читателю представлен большой фактический материал, раскрывающий особенности миграционной политики российского правительства применительно к корейцам. ...
Добавлено: 22 сентября 2017 г.
Сон Ж. Г., В кн.: V Международная корееведческая конференция: «Россия и Корея в меняющемся мировом порядке: политика, экономика, культура».: Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2016. С. 200–210.
Автор обратилась к слабо разработанной в российской историографии теме о сотрудничестве СССР и КНДР в области образования в 1946-1948 гг. Задолго до создания государства КНДР (1948) в 1946 году было положено начало тесному сотрудничеству этих стран. На базе архивных материалов ГАРФ, РГАСПИ, опубликованных работ в статье предпринята попытка проследить этапы сотрудничества в области образования, подготовки ...
Добавлено: 5 ноября 2016 г.
Чонджу: Издательство Университета Чонджу, 2016.
В сборник включены доклады и выступления участников международного симпозиума по вопросам корейских диаспор, проживающих в Китае, Японии, России и США. Особое внимание уделяется изменениям этих сообществ под влиянием внешних факторов региона проживания, проблемам миграции корейцев с Корейского полуострова с конца IXX - нач. ХХ вв. в период колонизации Японией Кореи. Тексты представлены на языке оригинала ...
Добавлено: 15 сентября 2016 г.
Сон Ж. Г., Journal of Incheon Culture 2013 № 10 С. 56–70
В сообщении рассматриваются проблемы развития сельского хозяйства на советском Дальнем Востоке в 1920 – 1930-е годы. Советские корейцы внесли свой вклад в улучшение социально-экономического положения края, являясь специалистами в разведении самой рентабельной по климатическим условиям сельскохозяйственной культуры – риса. В 1926 г. активное возведение новой отрасли рисоводство в промышленных масштабах к середине 1930-х годов пришло ...
Добавлено: 24 июня 2014 г.
Иноземцев В. Л., Россия и мусульманский мир 2005 № 12 С. 170–176
Война с террором» обостряется столь же стремительно, как в свое время классовая борьба обострялась по мере продвижения к коммунизму. Это подталкивает к тому, чтобы поразмышлять не только о ее непосредственных причинах, но и об исторических аналогах, причем не частных терактов, а всего «экстремистского» движения в целом. И невольно возникает ощущение deja-vu, причем из совсем еще ...
Добавлено: 21 января 2014 г.
Сон Ж. Г., Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана 2013 № 1-2 (19-20) С. 189–196
В начале 1930-х годов военная угроза на Дальнем Востоке непрерывно росла. Планы подготовки войны против СССР являлись одним из основных элементов японской военной политики. Антисоветская пропаганда захлестнула как Японию, так и Корею, и носила откровенно истерический характер. Апогеем этой истерии стал вооруженный конфликт в районе оз. Хасан (24 июля 1938 г.), развязанный японской стороной. Информационная ...
Добавлено: 11 сентября 2013 г.
Алексеева Т. А., Известия высших учебных заведений. Правоведение 2009 № 3 С. 88–101
В статье посвящена значению Конституции Испании 1812 г. для формирования политико-правовых взглядов декабристов и их конституционных проектов. ...
Добавлено: 7 апреля 2013 г.
Сон Ж. Г., М.: Гриф и К, 2013.
В книге рассматривается история советских корейцев (1920-1930) как составная часть истории полиэтничного государства –Союза ССР. Выводы автора базируются на основе выявленных новых архивных материалов, обобщенных итогах своих предшественников. Главное внимание уделено анализу двойственной по своему характеру политики Сталина по отношению к корейцам, причин и форм политических репрессий, применявшихся к корейскому населению, судьба которого на Дальнем ...
Добавлено: 22 марта 2013 г.
Seul: ., 2011.
Исторические связи между странами: Китай, Япония, Россия, США, Корея, имеющие свое начало в национально-освободительном движении от колониального господства Японии. Диалог ученых Китая, Японии, России, США и Кореи, взаимодействие участников движения за независимость между этими странами ...
Добавлено: 15 февраля 2013 г.