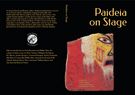Малич К. А., М. : Музей современного искусства "Гараж", 2024
«Я поражен всем виденным. Мое единственное желание — остаться в СССР для работы» — эту фразу архитектора Герберта Вильямса цитировала «Красная газета» в июле 1932 года, когда в Ленинград приехала группа британских зодчих. Другой участник этой деле- гации, секретарь Лондонской архитектурной ассо- циации Фрэнк Йербюри, сообщил журналисту после обзорной экскурсии по советским стройкам: «Я при- ...
Добавлено: 12 марта 2024 г.
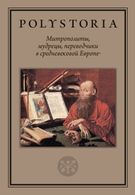
В основе книги "Митрополиты, мудрецы, переводчики в cредневековой Европе", продолжающей серию "Polystoria", — исследования, выполненные сотрудниками Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ и их коллегами. Она посвящена различным аспектам культурной, религиозной и политической истории Средневековья и раннего Нового времени на Западе и Востоке Европы. Помимо исследований здесь публикуется первый перевод с латыни на русский язык трактата ...
Добавлено: 27 февраля 2024 г.
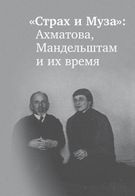
М. : trofimov.design, 2023
В сборнике представлены материалы международной конференции «Страх и Муза: Ахматова, Мандельштам и их время», приуроченной к 130-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама и 55-летию со дня смерти А.А. Ахматовой (Москва – Санкт-Петербург, 17–21 января 2022 г.). Ее соорганизаторами выступили Мандельштамовский центр НИУ ВШЭ, Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля и Музей А.А. Ахматовой в Фонтанном доме. В статьях ведущих ...
Добавлено: 5 февраля 2024 г.

Виноградов А. Ю., Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023
В книге исследованы актуальные и недостаточно изученные проблемы средневековой архитектуры Византии и Кавказа. Первый раздел посвящен Византии. В нем рассматриваются сложные темы происхождения и ранней эволюции типа вписанного креста, генезис типа купольного зала, возникновение крестово-купольного триконха и др. Впервые дается обзор надвратных храмов, апсидиолы и полукруглой ниши. Большое внимание уделяется взаимоотношениям архитектуры Константинополя и провинций ...
Добавлено: 1 февраля 2024 г.

М. : ФГБУН ИВ РАН, 2023
Материалы Второй международной научной конференции «Искусство
Востока и Восток в искусстве: от традиционных форм к современным артпрактикам» (“Art in the East and East in Arts”) (ИВВИ / AEEA) представляют собой
сборник публикаций, сгруппированных по основным направлениям работы
конференции: «Сквозные мотивы и кочующие образы в искусстве и культуре
древнего и средневекового Востока», «Древняя урбанистика: общее и особенное в культуре поселений ...
Добавлено: 27 января 2024 г.

Калашников В. Б., [б.и.], 2024
Ещё в 1934 году А. Щусев писал в отношении архитектуры национальных республик, что «вопрос не может стоять так: “греко-римская система” с поправкой на климат, технику и национальные атрибуты». В действительности — именно так «вопрос» и был поставлен. Умение архитекторов подобрать наиболее характерные формы становилось определяющим для создания архитектуры «национально» узнаваемой. В результате к 1950-м годам не ...
Добавлено: 12 января 2024 г.

Родькин П. Е., Совпадение, 2024
Работа посвящена предметному анализу так называемой темной чувственности — продукту диалектического развития освобожденного, самоотчужденного и эгоистичного тела, и его отражения в массовой культуре и кинематографе второй половины ХХ — начала XXI века. Типология темной чувственности представлена на примере творчества трех разных кинорежиссеров: Кодзи Вакамацу, Ким Ки Дука, Ян Гэ. Анализ их фильмов включает широкий культурный ...
Добавлено: 10 января 2024 г.
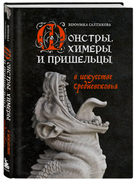
Салтыкова В. А., М. : Эксмо, 2024
Символы, образы, знаки средневекового искусства интересуют исследователей со всего мира не одно десятилетие. В этой книге повествуется об одном из самых ярких периодов в истории европейского искусства, его истоках, художественных особенностях, а также культурологическом, социальном и историческом контекстах. ...
Добавлено: 26 декабря 2023 г.
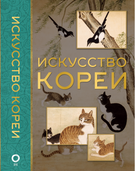
Хохлова Е. А., М. : Издательство АСТ, 2024
Корея — удивительная страна, в искусстве и культуре которой отражена ее богатая, необычная история. Корейское искусство отличается своей самобытностью, оригинальностью, яркостью и разнообразием сюжетов. Живопись корейцев символична, ведь в глубине каждой картины можно найти определенный смысл, передающий национальный колорит. Этот мини-альбом — своеобразный гид по искусству эпохи Чосон — научит вас разбираться в стилях и ...
Добавлено: 7 декабря 2023 г.

Борзенко В. В., РГБИ, 2022
До революции в России издавалось несколько сотен журналов, газет, альманахов и бюллетеней, посвященных театральному искусству. Разные по формату, объему, географическому охвату, авторскому составу, целям и задачам, все они в общей сложности удовлетворяли широкие интересы читательской аудитории, в том числе и связанные с вопросами национальных театров, ставивших спектакли в России на языках иностранных государств или вошедших ...
Добавлено: 15 ноября 2023 г.

Борзенко В. В., Возрождение, 2023
В настоящий момент книга, посвященная 100-летию Театра им. Моссовета, находится в производстве (см. черновой вариант верстки). Выход запланирован на декабрь 2023 г. ...
Добавлено: 12 ноября 2023 г.

Борзенко В. В., Театралис, 2022
В книге впервые предпринимается попытка собрать воедино адреса, связанные с жизнью и творчеством режиссера Евгения Вахтангова, а также на основе мемуаров и архивных документов представить колорит Вахтанговской Москвы. ...
Добавлено: 12 ноября 2023 г.

Анохина Е. А., Васильева О. А., Ладынин И. А. и др., Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2021
Коллективная монография суммирует результат исследований, проводившихся в рамках проекта РНФ № 19-18-00369 «Классический Восток: культура, мировоззрение, традиция изучения в России (на материале памятников коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина
и архивных источников)» в 2019–2021 гг. Каждая из глав книги посвящена исследованию
памятника или группы памятников египетской и переднеазиатской коллекций ГМИИ
им. А. С. Пушкина, а также их аналогов, ...
Добавлено: 31 октября 2023 г.

Васильева О. В., Ястребова О. М., СПб. : Российская национальная библиотека, 2022
В Российской национальной библиотеке хранятся 250 рукописей главной книги ислама — Корана. Более 130 из них представляют собой фрагменты древнейших списков VII–XII вв. Остальные — кодексы полные или почти полные, отдельные части-джуз’ы или же суры, а также разрозненные фрагменты из манускриптов разного времени. В книге рассказывается об особенностях художественного оформления Коранов в разные эпохи и ...
Добавлено: 28 сентября 2023 г.

Предлагаемая вниманию читателей коллективная монография состоит из статей и эссе, подготовленных на основе докладов, которые прозву- чали на международной конференции в Центральном доме архитектора в Москве 15–16 сентября 2021 г. Конференция, приуроченная к 130-ле- тию со дня рождения Бориса Михайлович Иофана, тематически вышла за рамки обсуждения творческой карьеры и наследия конкретного ар- хитектора. Фигура бывшего ...
Добавлено: 13 июля 2023 г.

Земляков М. В., М. : Аквилон, 2023
Сборник посвящен актуальным проблемам источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в области истории западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени, Древней Руси, арабского Востока. Представлены разнообразные типы источников, новые подходы к их изучению, а также ряд теоретических проблем современного источниковедения. ...
Добавлено: 17 июня 2023 г.
Никифорова В. И., Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 2024 № 1 С. 110-122
В статье представлен анализ керамических скульптур Михаила Врубеля, созданных по мотивам опер Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Садко» в 1899−1900-х годах. Исследуется синтетический характер работ Врубеля, особенности обращения к литературным сюжетам, получившим новое воплощение в мире театра. Уделено внимание влиянию домашних спектаклей Абрамцевского кружка на формирование интересов художника, в том числе постановки «Снегурочка». Рассмотрена театральная деятельность ...
Добавлено: 27 апреля 2024 г.
Никифорова В. И., ADALYA 2023 Vol. 12 No. 12 P. 28-36
The article explores the field of cultural production in Russia in the last third of the 19th century. By virtue of the conceptual heritage of the French sociologist Pierre Bourdieu (forms of capital, the field of cultural production), the context in which the Abramtsevo circle (a colony of Russian artists) arose and developed was revealed. ...
Добавлено: 27 апреля 2024 г.
Зиновьева А. М., Вестник Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 2024
В статье предпринята попытка воссоздать теоретические предпосылки формирования практики живых картин во Франции конца XVIII века. Основу исследования составляет корпус текстов западноевропейских теоретиков и практиков изобразительного искусства и театра, в которых развиваются идеи о взаимодействии театра и живописи — от античных трактатов до трудов эпохи Просвещения. Особое внимание уделено трудам французских авторов XVII-XVIII веков, благодаря ...
Добавлено: 26 апреля 2024 г.
Стремительное развитие технонауки ставит под вопрос привычные способы восприятия и традиционные практики анализа информации, в частности, одним из вызовов для коммуникационного общества стало развитие искусственного интеллекта, способного создавать изображения, почти неотличимые от живописных и фотографических, это хорошо заметно по тем дискуссиям, которые развиваются сегодня вокруг фотографии и подталкивают нас к рассуждению о семиотическом сдвиге, происходящем ...
Добавлено: 17 апреля 2024 г.
Медакин С. С., Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология» 2022 Т. Ч. 2 № 6-2 С. 287-297
В статье выявляется и анализируется формирование образов прошлого в популярной музыке на примере треков альбома “Heroes” группы “Sabaton”. Данная работа исследует репрезентации образов войны в популярной музыке в контексте оригинальных произведений музыкальной группы “Sabaton”, интервью музыкантов, отзывов фанатов и критиков, а также видеороликов научно-популярного YouTube-канала группы. Автор развивает исследования репрезентаций образов военной истории в контексте ...
Добавлено: 3 апреля 2024 г.
Головлев А. И., Диалог со временем 2024 № 86 С. 274-288
В данной статье Австрийские Федеральные театры рассматриваются как крупнейшая организационная единица австрийской культурной политики с точки зрения её концептуализации, применения и анализа. Долголетие этого театрального конгломерата скорее объясняется зависимостью от траектории и доминирующими моделями мышления в бюрократии, культурной среде и обществе Австрии чем настоящей борьбой за экономическую эффективность. В первой половине XX в. Федеральные театры ...
Добавлено: 2 апреля 2024 г.
Вяземцева А. Г., Малич К. А., Печенкин И. Е., Актуальные проблемы теории и истории искусства 2023 Т. 13 С. 676-686
В статье исследуется история контактов между СССР, Великобританией и США в архитектурной сфере в период Второй Мировой войны. Наряду с военно-политическим и материально-техническим сотрудничеством, между странами-участницами Антигитлеровской коалиции имел место культурный обмен, но именно в области архитектуры теоретический и практический аспекты были прочно связаны. О взаимном интересе советских и западных архитекторов к проблемам и достижениям ...
Добавлено: 12 марта 2024 г.
Алёхина А. В., Писарев А. А., Логос 2024 Т. 34 № 1 С. 131-176
Статья посвящена анализу допущений, стратегий и возможностей Art&Science сквозь призму трех типов метафизического мышления. Эти типы задаются ответом на вопрос: почему есть нечто, а не ничто. Так, разбор классической метафизики позволяет выявить базовые допущения многих проектов Art&Science. Эти допущения заимствуются искусством у публичной саморепрезентации наук и западного здравого смысла: существует автономная и упорядоченная природа, она ...
Добавлено: 10 марта 2024 г.
Огудов С. А., Русская литература 2024 № 4
В статье киносценарии В.В. Маяковского рассматриваются как мультимодальные нарративы, основанные на объединении моделей игрового, хроникально-документального и анимационного кино. На примерах из сценариев «Позабудь про камин», «Сердце кино», «Бенц №22» и других раскрыто взаимодействие модусов передачи истории, позволяющих Маяковскому планировать постановку как сложный синтез нескольких видов кино. ...
Добавлено: 1 марта 2024 г.
Зинченко С. А., Исторические Исследования. Журнал Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 2023 Т. 18 С. 5-17
Несколько наверший с сильно стилизованным изображением крылатого женского божества происходят из Александропольского кургана. Оформление их нижних частей крайне стилизованно, что вызывает различные варианты идентификации. Для оценки перспектив соотнесения изображений на нижних частях наверший с определенных кругом вероятных персонажей, необходимо определить какие иконографические схемы могли быть использованы как возможные прототипы. В рассматриваемых образах, в силу предельной редукции важных иконометрических элементов, затруднительно точное ...
Добавлено: 11 февраля 2024 г.
Королев А. В., Позднев М. М., Philologia Classica 2020 Т. 15 № 2 С. 292-321
Авторство двадцати девяти рельефов, составляющих скульптурный ансамбль Летнего дворца Петра I, дискутируется в науке с начала XX в. Попытки приписать их Андреасу Шлютеру († май/июнь 1714), равно как и другим архитекторам и скульпторам, продолжавшим начатые Шлютером в России постройки (Браунштейну, Маттарнови, Леблону, Микетти), оказываются в той или иной степени уязвимыми. Между тем аллегорическая программа комплекса, общая композиция, размещение рельефов по фасадам определяются единым ...
Добавлено: 10 февраля 2024 г.
Станция "Дистанция". Диспозитив производства знания в ранних российских художественных исследованиях
Конончук В. В., Логос 2023 Т. 34 № 1 С. 5-36
В статье рассматривается специфика российского искусства, которое можно определить как «художественное исследование». Для этого, с помощью исторического анализа этого явления, выводится сущностная характеристика художественного исследования как такового. Она заключается в переплетении онтологии, эпистемологии и методологии произведения или процесса, задаваемом через внеположную вопросам искусства проблематику. Искусство в этой ситуации выступает в качестве «эпистемической вещи» (Х. Боргдорф), ...
Добавлено: 9 февраля 2024 г.
Anton D. Pritula, Written Monuments of the Orient 2023 Vol. 9 No. 2(18) P. 95-113
Добавлено: 21 января 2024 г.
Головлев А. И., Вестник Пермского университета. Серия: История 2023 Vol. 63 No. 4 P. 61-73
Добавлено: 2 января 2024 г.
Баулина П. В., Артикульт 2023 № 52 (4-2023) С. 5-21
В статье рассматриваются эффекты использования проекционных поверхностей и устройств в театре. Предложен набор методологических процедур, позволяющий выявить режимы восприятия проекций в спектаклях. Теоретико-методологическая рамка, применяемая в статье, включает комплекс идей на стыке театроведения, семиотики и визуальных исследований, что позволяет рассматривать в качестве объекта изучения проекционный образ как синтаксическую единицу сценических практик, не переводимую в специфической ...
Добавлено: 26 декабря 2023 г.
V. K. Pichugina, Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and conflict studies 2023 Vol. 39 No. 4 P. 762-775
Сюжет об Оресте и Электре, совместно реализующих план мести за смерть их отца Агамемнона, взят за основу трагедии Эсхила «Жертва у гроба» и одноименных трагедий Еврипида и Софокла «Электра». Божественная воля и человеческие желания переплетаются в ключевых точках каждой из трагедий, где главные герои демонстрируют разные молитвенные практики как наставления городу, который должен принять и ...
Добавлено: 25 декабря 2023 г.
Огудов С. А., Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература 2022 Т. 19 № 3 С. 559-574
В статье исследуется интерпретация С. М. Эйзенштейном литературного сценария А. Г. Ржешевского «Бежин луг». На основе сопоставления различных версий киносценария прослеживается возникновение замысла фильма и изменение повествования при переходе от литературного сценария к режиссерскому: устранение реплик нарратора, возрастание масштаба событий вследствие сокращения нарративной дистанции, усиление монтажной разбивки текста. Наибольшее внимание уделено режиссерской интерпретации трех ключевых ...
Добавлено: 22 декабря 2023 г.
Sergei Ogudov, Studies in Russian and Soviet Cinema 2022 Vol. 16 No. 3 P. 183-199
Добавлено: 22 декабря 2023 г.
Sergei Ogudov, Studies in Russian and Soviet Cinema 2021 Vol. 15 No. 3 P. 195-205
Добавлено: 22 декабря 2023 г.
Долин А. А., / Издательство «Гиперион». Серия ISBN 978-89332-338-2 "Вне серий". 2019.
Уникальное академическое издание духовной поэзии японского средневековья подготовлено одним из ведущих российских востоковедов профессором НИУ ВШЭ Александром Долиным. Впервые в истории мирового японоведения на примере творчества крупнейших поэтов прослеживается эволюция религиозных воззрений различных буддийских школ, отразившаяся во всем многообразии жанрово-стилистических особенностей стиха. Обширная историческая панорама, включающая шедевры пейзажной и медитативной лирики, воссоздает эстетическое мироощущение поэтов ...
Добавлено: 11 ноября 2019 г.
Ганжа А. Г., / Издательский дом "ПостНаука". Серия 11.05.2018 "Культура". 2018.
Позднесоветское цирковое искусство и киномузыка являются актуальнейшими наследниками неизжитых социальных смыслов, которые до сих пор присутствуют в нашей культурной жизни, и пока с этим никто расставаться не собирается. Музыка Эдуарда Артемьева звучит в сетевых продуктовых магазинах. Произведения Алексея Рыбникова, Микаэла Таривердиева, Исаака Шварца звучат в метро. И, хотим мы этого или нет, мы вынуждены переваривать ...
Добавлено: 7 сентября 2018 г.
Виноградов А. Ю., / National Research University Higher School of Economics. Серия WP BRP "Basic research program". 2016.
. ...
Добавлено: 10 апреля 2017 г.
Кулева М. И., / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2016. No. 138.
Добавлено: 8 декабря 2016 г.
Масиель С. Л., / Издательский дом НИУ ВШЭ. Series WP "Working Papers of Humanities". 2016. No. 125.
Препринт посвящен украинским архитектурным формам в русской архитектуре XVIII века. В нем рассматриваются механизмы использования этих элементов в контексте интенсивного культурного обмена между Россией и Украиной. В результате обнаруживается принципиальное различие между двумя грурпами сооружений. В первой украинские формы используются намеренно, для создания специального иконографического подобия. Во второй украинизмы пристуствуют лишь как элемнты архитектурной моды, ...
Добавлено: 9 марта 2016 г.
Алферова Н. В., Tarasenko A. V., / Издательский дом НИУ ВШЭ. Series WP "Working Papers of Humanities". 2015.
Экспортная китайская живопись, занимавшая мало значимый, с точки зрения художественной ценности, сегмент на европейском рынке XVIII-XIX вв., в отличие других видов декоративно-прикладного искусства, до недавнего времени не являлась предметом внимательного изучения ученых. В фондах Российской национальной библиотеки имеется собрание китайских рисунков, изучение которых поможет заполнить лакуны в исследовании многочисленных видов китайского экспортного искусства и художественных ...
Добавлено: 4 декабря 2015 г.
Гасан Гусейнов, / Постнаука. Серия 27.01.2015 "Статьи". 2015.
Видеозапись + полный текст лекции Какие мифические комплексы лежат в основе представлений об античной архитектуре? Как в зданиях и кораблях проявляется изоморфность человеческому телу? Для чего в римские храмы и гробницы встраивали «глаза»? Почему Витрувий требует от архитектора знания мифологии? ...
Добавлено: 25 июля 2015 г.
Гасан Гусейнов, / Постнаука. Серия 27.01.2015 "Статьи". 2015.
Об истоках карикатуры и различных формах подражания в искусстве. ...
Добавлено: 25 июля 2015 г.
Margarita Kuleva, / Centre for German and European Studies. Series "Working Papers of Centre for German and European Studies". 2014. No. 7.
The paper examines social features and cultural profile of the audience of Manifesta 10, first global scaled art-event ever hold in St. Petersburg and Russia as well. Based on the empirical study of 400 formalized interviews with biennale visitors (July-September 2014), this paper compares the audience of Manifesta 10 with visitors of European art-events, firstly ...
Добавлено: 16 февраля 2015 г.
Margarita Kuleva, / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2015. No. 85.
Добавлено: 3 февраля 2015 г.
Кобыща В. В., / Издательский дом НИУ ВШЭ. Series WP "Working Papers of Humanities". 2014. No. 79.
Добавлено: 4 декабря 2014 г.
Самутина Н. В., / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2014. No. 71.
Добавлено: 22 октября 2014 г.
Штейнер Е. С., / Издательский дом НИУ ВШЭ. Series WP "Working Papers of Humanities". 2014. No. WP BRP 49/HUM.
Добавлено: 4 мая 2014 г.
Самутина Н. В., / Высшая школа экономики. Серия WP6 "Гуманитарные исследования". 2010. № 05.
В тексте в обзорно-аналитическом ключе представлены дискуссии, ведущиеся в теоретических работах последних трех-пяти лет по поводу происходящих с кинематографом изменений и связи этих изменений с задачами и статусом самой науки о кино, ее методологическими возможностями и ограничениями. В качестве центрального ядра дискуссий выделена проблема меняющегося объекта cinema studies. С помощью наиболее адекватного в каждом случае ...
Добавлено: 24 марта 2013 г.