?
Проблема «Я»: философские традиции и современность
М. :
Альфа-М, 2012.
Под общей редакцией: Порус В. Н.
Проблема «Я» – общее наименование обширного комплекса проблем, связанных с определением и самоопределением человека как действующего, мыслящего и чувствующего индивида, чье бытие неизбывно связано с социально-культурным контекстом в его исторической длительности. Авторы книги – философы, социологи, психологи и культурологи Франции, России и Украины – исследуют эти проблемы в их взаимной связи.
Книга адресована специалистам, но может быть с интересом и пользой прочитана широким кругом читателей, обладающих навыками медленного и вдумчивого чтения серьезной гуманитарной литературы.
Главы книги
Рябушкина Т. М., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 250–277.
В современных философских исследованиях проблема существования единого человеческого Я предстает как проблема возможности сочетания различных образов Я, каждый из которых представляет собой некий способ видения того или иного аспекта реальности, способ реагирования на ту или иную жизненную ситуацию. Принято считать, что нормальная идентичность представляет собой единство Я-образов, а кризис идентичности в современном обществе обусловлен «переизбытком» ...
Добавлено: 10 октября 2012 г.
Плешков А. А., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 61–75.
Концепция индивидуальной души Плотина с трудом поддается однозначной интерпретации. С одной стороны, мы можем описать ее с помощью распространенной формулировки: душа – это пленница тела. Определяя душу как источник жизни, и указывая на ее первичность по отношению к телу, Плотин прямо говорит, что «...Душа человека – это и есть сам человек» (IV.7.1). С другой стороны, ...
Добавлено: 25 октября 2012 г.
Долгоруков В. В., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 223–235.
Статья посвящена попыткам привести доводы в пользу тезиса Деннета, в соответствие с которым обладание языковой способностью конституирует особый присущий только человеку тип сознания. ...
Добавлено: 12 ноября 2012 г.
Зинченко В. П., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 157–194.
В статье рассмотрено взаимодействие топологических структур Я и Сознания и их отношение к поведению, творческой деятельности и личности. Проведено сравнение психологических и психоаналитических взглядов на эти проблемы. Главный мотив статьи – свобода Я и его роль в осуществлении свободного действия. ...
Добавлено: 12 ноября 2012 г.
Михайловский А. В., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 75–93.
Проблема самопознания/самоузнавания (gnothi sauton) – одна из центральных тем философии В.В. Бибихина, которая может рассматриваться в плане развития онтологической герменевтики М. Хайдеггера. В исследовании анализируется неопубликованная рукопись курса лекций «Собственность. Философия своего», который читался в МГУ им. Ломоносова в 1993-1994 гг. Также привлекаются три книги автора – лекционные курсы в МГУ «Мир» (1989; изд.: Томск, ...
Добавлено: 28 января 2013 г.
Покровский Н. Е., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 139–156.
Элементы саморефлексии Я по поводу и в связи с переживанием гармонии или дисгармонии человека и природной среды относятся к начальным этапам формирования философского протосознания и культуры как таковой. Как бы то ни было, но эпоха Нового времени выделила эти мотивы в самостоятельное и ярко выраженное направление в философии и связало его с романтизмом. В романтизме ...
Добавлено: 31 января 2013 г.
Доброхотов А. Л., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 123–139.
Поиски русской философии собственного пути понимания Я выявляются в полемике Вл. Соловьева и Л. Лопатина. По Соловьеву, Декартом смешаны вместе чистый субъект мышления и эмпирический субъект, в результате чего появился «ублюдок» – духовная субстанция, которая совпадает и с чистым мышлением и с индивидуальным существом. На самом же деле, полагает Соловьев, нет повода приписывать субъекту сознания ...
Добавлено: 5 февраля 2013 г.
Макарова И. В., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. Гл. 2 С. 24–32.
Проблема “Я”, как принято считать, отсутствует в античной мысли. Однако вопрос, что есть человек, поднимается в греческой культуре довольно рано. Грек гомеровской эпохи называет себя autos (сам) и подразумевает под этим свое тело (soma). Платон первым поднимает вопрос о “самой”, истинной, природе человека вне связи с его телесным субстратом. У Платона впервые мы наблюдаем рождение ...
Добавлено: 17 марта 2013 г.
Петровский В. А., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. Гл. 2 С. 195–223.
Дана семиотическая, логическая и психологическая трактовка категории Я. Показано, что Я первоначально есть фантазия индивида о себе как самопологающем существе – познающем, действующем, переживающем. Эта фантазия, «знаковое Я», является иллюзией сознания. Фантазии о себе (прообразы Я во взаимоотношениях индивида с миром) способны становиться реальностью; это происходит тогда, когда они выступают в связке процессов, бессубъектных в ...
Добавлено: 21 марта 2013 г.
Драгалина-Черная Е. Г., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. С. 235–249.
В статье ставится задача реабилитации когито, обвиненного в двойном грамматическом преступлении - предикативной трактовке существования и субстантивизации Я. Обосновывается вывод о том, что условием адекватной реконструкции картезианского когито является допущение не сводимого ни к публичному, ни к перспективному метода идентификации - идентификации в перспективе первого лица. ...
Добавлено: 12 июня 2013 г.
Макеева Л. Б., В кн.: Проблема «Я»: философские традиции и современность.: М.: Альфа-М, 2012. Гл. 17 С. 291–304.
Реализм Я связан с признанием существования Я как некоторой самостоятельной и независимой сущности – картезианского эго. Будучи разновидностью ментального реализма, он опирается на определенную феноменологию восприятия Я. Существуют две основные стратегии опровержения реализма Я. Первая стратегия основывается на редукционистском физикализме и научном материализме в селларовском понимании. Вторая стратегия, которую можно назвать лингвистической, имеет в качестве ...
Добавлено: 13 июня 2013 г.
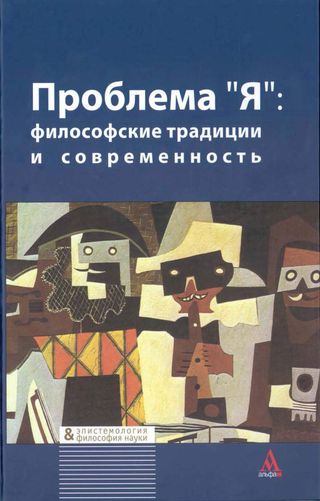
Бульцева М. А., Васильева Е. Д., Трифонова А. В., Социальная психология и общество 2025 Т. 16 № 4 С. 186–203
Контекст и актуальность. Шкала разрывов идентичности (identity gap) в коммуникации, разработанная М.Л. Хехтом и И. Юнг, используется специалистами в исследованиях межличностного взаимодействия в разных областях, включая межкультурную коммуникацию и коммуникацию в сфере здравоохранения. Цель. Адаптация и психометрическая валидизация русскоязычной версии шкалы разрывов идентичности, включающей две субшкалы — разрыв между личной и предъявляемой идентичностями (Personal-Enacted Identity ...
Добавлено: 29 декабря 2025 г.
Индия и Иран представляют уникальный в культурном отношении регион с необычайно богатой и сложной историей взаимодействий с иными цивилизационными центрами. Единство и разнообразие в развитии этого культурного ареала неизменно привлекает внимание исследователей-историков, лингвистов, фольклористов, литературоведов и религиоведов. В настоящей книге коллективом ученых, специализирующихся на самых разных областях духовной и интеллектуальной истории Индии и Ирана, была ...
Добавлено: 28 декабря 2025 г.
В основе этой книги из серии "Polystoria" — вторая книга Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, вышедшая в 2016 г. В издании рассматривается широкий круг вопросов, ранее либо вовсе не ставившихся, либо же недостаточно изученных — от особенностей исторической антропонимики в Киевской Руси и Скандинавии до попыток создания "правильной" картины прошлого в Московском царстве и у ...
Добавлено: 25 декабря 2025 г.
Пифийские оды Пиндара, древнегреческого поэта V в. до н.э., адресованы победителям общегреческих Пифийских игр, проводившихся в святилище Аполлона в Дельфах. Книга включает новый перевод Пифийских од с параллельным греческим текстом, подробный комментарий, дополненный указателем собственных имен и этнонимов, а также исследования и вспомогательные материалы, помогающие сориентироваться в особенностях поэтики Пиндара, предопределивших трудности перевода его текстов, ...
Добавлено: 19 декабря 2025 г.
Пантелеева Л. М., Хоробрых С. В., М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2026.
В монографии обсуждается проблема неоднозначности понятия «народная культура» и предлагаются два новых ракурса его рассмотрения — социально-информационный и концептуально-цивилизационный. В рамках этих подходов авторы проводят характеризацию разных типов народной культуры (традиционной и массовой) через лингвосемиотику похорон. Материалом исследования выступают диалектная речь жителей сельско-деревенской местности, фольклорные эпитафии на городских кладбищах, а также названия городских ритуальных агентств. ...
Добавлено: 18 декабря 2025 г.
Гаман-Голутвина О. В., Полис. Политические исследования 2024 № 3 С. 177–191
Предметом рассмотрения выступают результаты идентитарных исследований в России, нашедшие отражение в цикле фундаментальных научных изданий 2010-2023 гг. Главным итогом предстают формирование оригинальной отечественной научной школы идентитарных исследований и утверждение данного научного направления в качестве самостоятельной субдисциплины политической науки. В статье подвергнуты анализу ключевые теоретические параметры идентитарных штудий, включая содержательную эволюцию концепта идентичности, теоретико-методологический контекст и ...
Добавлено: 8 декабря 2025 г.
Большаков Н. В., В кн.: Альманах "Исследуя сообщество глухих: 2".: V-A-C Press, 2025. С. 324–363.
Кохлеарная имплантация по сей день остается одним из самых дискуссионных феноменов в жизни глухих и слабослышащих людей. Одни люди — например, медики и слышащие родители - воспринимают ее как медицинское чудо и триумф технологий над глухотой, а другие - например, многие глухие активисты - как средство социального контроля и избавления не только от глухоты в ...
Добавлено: 30 ноября 2025 г.
Кауфманн В., Шмид У., Томэ Д., М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2026.
Если к классическому габитусу философа традиционно принадлежала сдержанность в демонстрации собственной частной сферы, то в ХХ веке отношение философов и вообще теоретиков к взаимосвязи публичного и приватного, к своей частной жизни, к жанру автобиографии стало более осмысленным и разнообразным. Данная книга показывает это разнообразие на примере 25 видных теоретиков ХХ века и исследует не столько соотношение теории с частным ...
Добавлено: 28 ноября 2025 г.
Радкау Й., М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2026.
Технический прогресс и сексуальная эмансипация модерна, опережавшие психические возможности человека XIX века, запустили в культуре "нервные" механизмы, которые выражали обостренное ощущение нового мира и требовали новых методов преодоления, оказавшихся в итоге столь разнообразными и во многом фатальными. В этом ключе именитый немецкий историк Йоахим Радкау предлагает вниманию читателей уникальную культурную историю нервов в Германии. Фундаментальное исследование ...
Добавлено: 26 ноября 2025 г.
Леман Г., М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2025.
Передовое искусство XX века следовало принципам эстетики материала (кубизм, сериализм в музыке и т.д.), сегодня же мы наблюдаем поворот к эстетике содержания. Современные художники ищут новизну не в эстетическом материале, но в новом эстетическом содержании, артикулированном самим произведением. Этот содержательно-эстетический поворот составляет квинтэссенцию философии искусства Гарри Лемана.Основываясь на теории ключевых категорий, к которым относятся красота, ...
Добавлено: 26 ноября 2025 г.
Филатов А. С., Studia Linguistica (Санкт-Петербург) 2019 № 28 С. 100–103
Статья посвящена проблеме природы искажения смысла при интерпретации языковых конструктов. Возможность декодирования любого высказывания в первую очередь связывается с необходимостью актуализации языковых моделей опыта (фреймов), лежащих в основе семантической структуры текста, и соотнесения с ними каждого текстового элемента. В ходе исследований был рассмотрен корпус высказываний, прагматически направленных на интерпретацию сторонних текстов (критические и литературоведческие статьи). ...
Добавлено: 24 ноября 2025 г.
СПб.: Скифия-принт, 2025.
В материалы XXIX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Психология XXI века: человек и мир» вошли тезисы участников конференции, описывающие дизайн планируемых исследований, а также результаты уже проведённых. Научная проблематика конференции включает в себя такие области психологической науки, как общая и когнитивная психология, клиническая психодиагностика и психотерапия, психическое здоровье и раннее сопровождение детей ...
Добавлено: 21 октября 2025 г.
Герц А.Б., Психологические исследования: электронный научный журнал 2025 Т. 18 № 99 С. 5
сследование роли родителей в становлении аутентичности детей остается фрагментар- ным и содержит больше вопросов, чем ответов. Данное поисковое исследование отвечает на вопрос «как связаны образы родителей и диспозициональная аутентичность взрослых детей?» Для измерения оцениваемых переменных использовались: Адаптированная вер- сия семантического дифференциала детско-родительских отношений, Московская шка- ла аутентичности и Краткая версия опросника аутентичности. Участвовало 149 человек из полных семей ...
Добавлено: 19 октября 2025 г.
Макарова Н. П., Логос 2024 Т. 34 № 6 С. 113–132
В статье предпринимается попытка выделить и описать современные практики «воскрешения» субъекта в цифровом пространстве в контексте появления и распространения чат-ботов на базе искусственного интеллекта. Цифровые ресурсы конструирования дигитального образа субъекта в диалоговой форме осуществляют посредническую функцию памятования, производя и генерализируя «тексты жизни». Анализируются актуальные формы воспоминания в динамике индивидуальной памяти, а также разрабатываются различные уровни ...
Добавлено: 15 октября 2025 г.
Федоров О. Д., Юрченко М. А., Образовательная политика 2024 № 3(99) С. 70–82
Авторы предлагаемой статьи обращают внимание читателей на эволюцию и перспективы общественно-научного образования в России.Важность рассмотрения общественно-научного образования обусловлена пониманием его не только как инструмента консолидации и нациестроительства, но и как элемента борьбы за историческую память и коллективную идентичность. Ценным представляется обсудить не только организационные вопросы, но и содержание образования (учебную программу и способы взаимодействия с ...
Добавлено: 5 октября 2025 г.
Гаевская М. А., СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2023.
Сборник включает статьи, подготовленные на основе докладов и сообщений участников 24-й Межвузовской студенческой научной конференции «Студент - Исследователь - Учитель», состоявшейся 4-15 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена. Статьи прошли отбор редакционной коллегии сборника и рецензирование. Содержание материалов сборника отражает результаты изысканий молодых исследователей - студентов бакалавриата, магистратуры ...
Добавлено: 5 октября 2025 г.
Максименкова О. В., Сегал А. П., Вопросы философии 2025 № 10 С. 67–76
Исследование посвящено проблеме взаимодействия человека и искус ственного интеллекта (ИИ). Авторы рассматривают это взаимодействие как опосредованное интерфейсами, которые одновременно и упрощают его, и скрывают реальные механизмы кодирования и декодирования сооб щений (по К. Шеннону). В такой ситуации характеристики субъекта (акто ра) коммуникации размываются, и в качестве такового предстает не сам актор, но его инструмент, а ...
Добавлено: 2 октября 2025 г.
Пучков Я. М., В кн.: Цивилизации Востока: взгляд из XXI века. Сборник трудов конференции Школы востоковедения ФМЭиМП НИУ ВШЭ, 21-22 октября 2022 г.: М.: ООО «Адвансед солюшнз», 2024. С. 487–503.
Настоящее исследование представляет собой по- пытку проанализировать феномен японской внешнеполитической экспансии через призму конструктивистской теории международных отношений. Классические востоковедческие подходы к описанию и объяснению японского империализма зачастую не акцентируют внимания на том, почему среди всех азиатских государств именно Японии удалось преодолеть свою субалтерность и начать собственную колониальную экспансию. Схожее замечание относится и к проблемно-ориентированным теориям ...
Добавлено: 26 сентября 2025 г.
Малахов В. С., Симон М. Е., Летняков Д. Э. и др., / SSRN. Серия Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2020.
Понятие «политическая аккомодация» применительно к теории и практике управления культурным разнообразием могло бы обогатить российский академический словарь. Либерально-демократические государства изобрели специфические механизмы политической аккомодации культурных различий. Благодаря этим механизмам та часть населения демократического государства, которая не готова раствориться в этнокультурном большинстве, более или менее надежна защищена. Закон не только запрещает насильственную ассимиляцию, но и содержит ...
Добавлено: 26 сентября 2025 г.
Данный аналитический доклад является одним из результатов исследований в рамках консорциума НИУ ВШЭ и МГИМО. В нем прежде всего раскрыты вопросы концептуализации национальной мощи и сопутствующих категорий и дается обзор прецедентов. Далее рассматриваются вопросы операционализации предлагаемых нами компонентов национальной мощи. В следующих разделах доклада предлагается анализ вопросов методологии, используемой в докладе. На этой основе предложен ...
Добавлено: 19 сентября 2025 г.
Добавлено: 21 февраля 2025 г.
Микаелян А. Л., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Literary Studies". 2024. No. 28.
Добавлено: 19 ноября 2024 г.
Добавлено: 30 октября 2024 г.