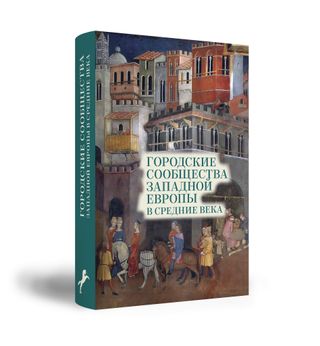?
Городские сообщества Западной Европы в Средние века
В книге рассматривается ряд проблем, связанных с появлением, становлением и функционированием сообществ в городской среде Европы в Средние века и раннее Новое время. Отправной точкой для исследовательских гипотез в первой части книги стала ревизия основных социологических понятий, используемых в историографических традициях европейских стран для описания социальных структур прошлого. Намечена модель предметной области с опорой на собственные эмпирические изыскания авторов и данные предшествующих исследований, свидетельствующие об удивительном разнообразии самоорганизующихся и саморегулирующихся сообществ Средневековья и раннего Нового времени.
Вторая часть монографии объединяет исследования, посвященные различным примерам средневековых городских общностей. Предпринята попытка описать возникновение, становление и развитие общих и частных типов социальных структур в городе.
В третьей части сделана попытка выйти за рамки отдельных сообществ, обратив внимание на сферу их взаимодействия, тот контекст, в котором происходило это взаимодействие. Также ставится вопрос об осознании специфики самоорганизующихся городских сообществ в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени, о путях их встраивания в более крупные политические структуры.