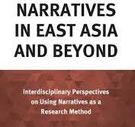СПб. : Арт-Экспресс, 2024
В сборник вошли статьи и тезисы участников 1-й Всероссийской научной конференции молодых ближневосточников «Армия и военные традиции на Ближнем Востоке». Тематика материалов представляет широкий круг вопросов, связанных с военными традициями, историей армии в VIII-XVII вв., ролью армии в политике, государстве и обществе на Ближнем Востоке в новое и новейшее время и охватывает такие регионы, как ...
Добавлено: 24 апреля 2024 г.

Григоровская А. В., М. : Изд-во РГГУ, 2021
Сборник статей по итогам одноименной конференции РГГУ 2019 года. ...
Добавлено: 18 апреля 2024 г.

М. : Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2023
Сборник тезисов преподавателей высших учебных заведений и учителей образовательных учреждений, а также молодых ученых, школьников, магистрантов, аспирантов, II конференции Лицея НИУ ВШЭ «Наука с тысячью лиц. Исследуя стресс: от физического до культурного»: материалы конференции (24-25 марта 2023 г.). В сборник вошли тезисы выступлений преподавателей высших учебных заведений и учителей образовательных учреждений, а также молодых ученых, ...
Добавлено: 11 апреля 2024 г.

Янгляева М. М., Якова Т. С., ИКАР, 2019
Эта книга о медиагеографии-новом для России направлении гуманитарной мысли. Медиагеография позволяет проникнуть в процесс медиатизации - волны, которая охватила все человечество в XX—начале XXI вв., понять суть информационного общества. Медиагеография - это не только новая теория о современном человеческом мире, где конструирование ментальных ландшафтов становится таким же важным для выживания государства, как и сохранение природных ...
Добавлено: 8 апреля 2024 г.

Эта книга о современном обществе, которое называют сегодня цифровым. О современном человеке, который активно потребляет информацию из Мировой Паутины. Цифровой человек (homo digital sapiens) представляет большой интерес как объект изучения в рамках обществоведения, он насыщен легко считываемой информацией «о себе», именно на него оказывает влияние огромный массив транслируемых медиа и ресурсами интернета разнообразных смыслов. Цифровизация ...
Добавлено: 8 апреля 2024 г.

Философова Т. Г., [б.и.], 2023
Материалы XXXII конференции, 8-10 ноября 2022 г. ...
Добавлено: 1 апреля 2024 г.

В сборнике представлены материалы, присланные участниками XIX международной научной конференции «Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: Объяснение историей как способ познания педагогического настоящего». В статьях рассматривается широкий круг вопросов, связанных с изучением историко-педагогического процесса в контексте познания проблем существующей педагогической реальности. В приложении дается текст лекций «О педагогике» И. Канта в переводе и с комментариями ...
Добавлено: 12 марта 2024 г.
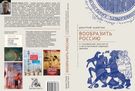
Замятин Д. Н., СПб. : Алетейя, 2024
Монография посвящена исследованию процессов становления геокультур и метагеографий Северной Евразии. В качестве цивилизационного и геокультурного ядра Северной Евразии рассматривается Россия. Анализируются различные способы геокультурного воображения и метагеографического моделирования Северной Евразии на планетарном, региональном и локальном уровнях. Особое внимание уделено проблематике художественных метагеографий и сопространственности геокультур. Книга может быть полезна ученым-гуманитариям и экспертам, изучающим проблемы геокультурного, ...
Добавлено: 20 февраля 2024 г.

M. : HSE, 2023
В сборнике представлены статьи студентов и аспирантов, принявших участие в I Международной научно-практической конференции «Итальянский язык и культура: soft power в XXI веке», проходившей 13 апреля 2023 г. в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» на платформе Яндекс.Телемост. Авторы рассматривают современное состояние и тенденции развития итальянского языка, актуальные проблемы экономической, политической, социальной и культурной жизни ...
Добавлено: 12 февраля 2024 г.

Родькин П. Е., Совпадение, 2024
Работа посвящена предметному анализу так называемой темной чувственности — продукту диалектического развития освобожденного, самоотчужденного и эгоистичного тела, и его отражения в массовой культуре и кинематографе второй половины ХХ — начала XXI века. Типология темной чувственности представлена на примере творчества трех разных кинорежиссеров: Кодзи Вакамацу, Ким Ки Дука, Ян Гэ. Анализ их фильмов включает широкий культурный ...
Добавлено: 10 января 2024 г.
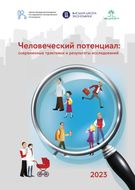
Аникин В. А., Антонов Е. В., Антонова В. К. и др., М. : Всероссийский центр изучения общественного мнения, 2023
Представленная коллективная монография — первая за последние 10 лет попытка переосмыслить классическую трактовку понятия «человеческий потенциал» и провести масштабные междисциплинарные исследования в этой области. Она объединила в себе усилия ведущих социологов, психологов, экономистов, специалистов в области педагогики, управления, географии и других дисциплин, что позволило получить комплексное представление о человеческом потенциале, а также о современных проблемах ...
Добавлено: 29 декабря 2023 г.
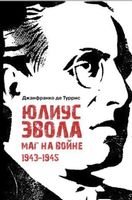
де Туррис Д., Моисеев Д. С., СПб. : Владимир Даль, 2023
Самым темным периодом биографии итальянского традиционалиста Юлиуса Эволы всегда считался отрезок с сентября 1943 по август 1948 года, о котором достоверно было известно только одно: в январе 1945 года в ходе американских бомбардировок Вены мыслитель получил ранение, парализовавшее его ниже пояса до конца жизни. Более подробную информацию, как считалось до недавнего времени, установить было невозможно. ...
Добавлено: 25 декабря 2023 г.

Монография посвящена начальному периоду формирования внешней политики советской России, подписавшей в 1921 г. первые договоры с Афганистаном, Ираном и Турцией. Дается анализ особенностей взаимоотношений молодого советского государства с южными соседями и сложной геополитической и экономической ситуации в этих странах, а также характеристика содержания договоров и последствий их реализации. Приводятся также оценки договоров отечественными и зарубежными ...
Добавлено: 12 декабря 2023 г.

В основе содержания настоящей книги – комплексный анализ результатов
уникального многоаспектного общероссийского социологического исследования РИСИ и ФНИСЦ РАН, охватившего 6 тыс. респондентов, представляющих семь возрастных групп населения страны от 14 до 60 + лет, в том числе четыре молодежные когорты. На основе использования сопоставительного подхода рассматриваются представления молодежи о будущем России и ее месте в мире, ...
Добавлено: 25 ноября 2023 г.

Борзенко В. В., Театралис, 2022
В книге впервые предпринимается попытка собрать воедино адреса, связанные с жизнью и творчеством режиссера Евгения Вахтангова, а также на основе мемуаров и архивных документов представить колорит Вахтанговской Москвы. ...
Добавлено: 12 ноября 2023 г.

М., Екатеринбург : Фабрика комиксов : Кабинетный ученый, 2023
В книге собраны статьи российских и зарубежных исследователей комиксов. Всего представлено шесть разделов, в которых изучение комиксов распределяется в соответствии с географической или тематической принадлежностью. Седьмой выпуск сборника посвящен преимущественно протокомиксным формам, комиксам и анимации России и азиатского региона, хотя и не исчерпывается только этими направлениями. Первый раздел описывает историю развития русского комикса, начиная с его истоков на лицевых изразцах, в русской почтовой открытке и лубке, на детском рисунке-переделке. Второй ...
Добавлено: 2 ноября 2023 г.

Книга содержит текст Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинского Заповедника) до 2037 года, карты и схемы развития территории музея-заповедника, иллюстрации по основным намеченным архитектурным проектам, табличный материал. ...
Добавлено: 13 октября 2023 г.
Афанасьева И. А., Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение 2024 № 56
В статье рассматривается ряд произведений художника‑передвижника В.Е. Маковского в контексте театральной проблематики. Картины художника анализируются в следующих аспектах: 1) театральный образ и его воплощение; 2) соответствие содержания театрально‑драматическим сюжетам; 3) сценическое пространство. Автор приходит к выводу о том, что на стилистику многих произведений В.Е. Маковского существенное влияние оказали пьесы М.С. Щепкина, А.Н. Островского, А.А. Потехина, К.С. Станиславского и др. ...
Добавлено: 2 мая 2024 г.
Денисова В. Г., Лисанюк Е. Н., Слово.ру: балтийский акцент 2024 № 3
Современная когнитивно-поведенческая терапия депрессии использует логические инструменты как средства упорядочения мыслительных процессов в целях преодоления их автоматизма у пациентов, утративших контроль над своим мышлением вследствие состояния дистресса. Обосновывая свои техники, когнитивные психотерапевты нередко ссылаются на философские учения стоицизма, феноменологии и критического рационализма, но не на наследие Г. Фреге, внесшего фундаментальный вклад в философию XX в. ...
Добавлено: 1 мая 2024 г.
Арбатская Е. О., Шаги/Steps 2021 Т. 7 № 2 С. 325-333
В статье рассматривается книга американского ученого Л. Даунинг о феномене женского эгоизма. ...
Добавлено: 18 апреля 2024 г.
Бочаров Е. В., Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки 2024 Т. 2 № 883 С. 22-27
В статье на материалах выступлений глав делегаций в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН описывается специфика персуазивного воздействия на слушателей, дается характеристика языковым средствам и изучаются способы выстраивания определенного образа вокруг политика и его страны, а также способы достижения поставленных задач. ...
Добавлено: 5 апреля 2024 г.
Медакин С. С., Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология» 2022 Т. Ч. 2 № 6-2 С. 287-297
В статье выявляется и анализируется формирование образов прошлого в популярной музыке на примере треков альбома “Heroes” группы “Sabaton”. Данная работа исследует репрезентации образов войны в популярной музыке в контексте оригинальных произведений музыкальной группы “Sabaton”, интервью музыкантов, отзывов фанатов и критиков, а также видеороликов научно-популярного YouTube-канала группы. Автор развивает исследования репрезентаций образов военной истории в контексте ...
Добавлено: 3 апреля 2024 г.
Лурье З. А., Полякова М. А., Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии. 2024 № 12 С. 302-327
В настоящей публикации приведен текст «Краткого наставления» Ульриха Цвингли, написанного в 1523 г. и перенесшего несколько переизданий. Этот важный источник для педагогической мысли эпохи Реформации не был переведен на русский язык, и в целом почти не известен читателю. В предисловии к тексту дан обзор обстоятельств создания текста, среди которых как личная ситуация и брак Цвингли ...
Добавлено: 21 марта 2024 г.
Береснева Н. А., Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 2024 № 1 (67) С. 85-96
В статье на материале региональных школьных учебных пособий советского и постсоветского периодов рассматриваются формы самопрезентации Дальнего Востока и способы приращения регионом (и отдельными его субъектами) символического капитала. С одной стороны, речь идет о реакции на устойчивое представление о собственной истории, которая в субстанциональном отношении видится относительно короткой (фактически – не ранее второй половины XIX в.), ...
Добавлено: 20 марта 2024 г.
Кантор В. К., Философические письма. Русско-европейский диалог 2024 Т. 7 № 1 С. 12-42
Основная идея статьи — анализ творчества и судьбы русского мыслителя Александра Ивановича Герцена (1812–1870), посвятившего свою жизнь борьбе с русской империей. Автор выстраивает цепь событий: от «аннибаловой клятвы» юных Герцена и Огарева (1827), замечая, что карфагенянин Ганнибал клялся разрушить враждебное государство, русские же подростки посвятили себя разрушению своей империи. Затем развитию бакунинского кредо в 1847 ...
Добавлено: 20 марта 2024 г.
Григоровская А. В., Шаги/Steps 2024 Т. 10 № 1 С. 187-206
В статье анализируются взаимосвязи источников
энергии и человеческой культуры в русских и зарубежных утопиях. Автор рассматривает основной способ корреляции между
энергетической и антропологической эволюцией, заключающийся в их взаимном влиянии друг на друга. Утопические произведения демонстрируют эту взаимозависимость достаточно
очевидно. В ранних утопиях (Платон, Т. Мор, Т. Кампанелла)
технологическая стагнация (у Ф. Бэкона — стремление к модернизации) сочетается с тоталитарным ...
Добавлено: 20 марта 2024 г.
Chrysagis E., Компациарис П., Culture, Theory and Critique 2023 Vol. 63 No. 2-3 P. 119-124
Добавлено: 17 марта 2024 г.
Будникова А. А., Научное мнение 2023 № 7-8 С. 137-142
Настоящая статья посвящена методической проблеме лингвокультурной вариативности английского языка в рамках иноязычного образования в вузе. Автор обобщает геополитические и лингвистические предпосылки плюрицентризации английского языка, аргументирует актуальность проблемы для современной лингводидактики, а также рассматривает теоретические основания и технологические возможности изучения вариантов английского языка в высшей школе с позиции концепции обучения английско- му языку как международному. ...
Добавлено: 11 февраля 2024 г.
Соколова Т. Д., Алексеева А. М., ВЕСТНИК КазНУ. Серия международные отношения и международное право 2023 Т. 103 № 3 С. 87-104
Актуальность изучения стратегий локализации и стандартизации в международном маркетинге становится очевидной в связи с растущим присутствием российских и международных брендов на узбекском рынке. Следовательно, существует необходимость в разработке грамотной маркетинговой стратегии, направленной на улучшение финансовых результатов, в частности, с точки зрения прибыльности и роста продаж.
В настоящем исследовании была изучена коммуникационная среда страны, а также выявлены ...
Добавлено: 9 февраля 2024 г.
Киселева М. С., Философические письма. Русско-европейский диалог 2023 Т. 6 № 1 С. 230-236
Рецензия на монографию: Вдовина Г. В. Химеры в лесах схоластики. Ens rationis и объективное бытие. СПб.: Изд-во СПбПДА; Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 440 с. (Теология: история и современность). ...
Добавлено: 28 января 2024 г.
Киселева М. С., Вопросы философии 2023 № 11 С. 137-148
В статье прослеживается связь философской антропологии как самостоятельной области знания, сложившейся с начала ХХ в., и синтеза наук о человеке в пространстве междисциплинарности. Философия человека в СССР рассмотрена на ее начальном этапе в работах Г.Г. Шпета, создателя Института научной философии (ИНФ, 1921–1923), а затем в исследованиях Института философии АН СССР. Показано, что проблематика философии человека, ...
Добавлено: 24 января 2024 г.
Burlakova I., Gribkova O., Kononenko M. и др., SHS Web of Conferences 2021 Vol. 97 Article 01039
Добавлено: 21 января 2024 г.
Glebov V. A., Popov S. I., Lagusev Y. M. и др., Propósitos y representaciones 2021 Vol. 9 No. SPE3 Article e1258
Добавлено: 21 января 2024 г.
Тульчинский Г. Л., Человек 2023 Т. 34 № 3 С. 73-92
Смысл, осмысление и смыслообразование, субъектность как ответственное самосознание и действие образуют ядро человеческого бытия, обеспечиваемого коммуникацией. Данная работа содержит попытку ответа на вопрос — что меняют в этом ядре цифровые коммуникативные форматы. Используются концепции прагмасемантики и глубокой семиотики, которые позволяют конкретизировать роль социально-культурных практик как интерфейсов смыслообразования, а также показать роль субъектности как источника, средства и результата смыслообразования. Систематически ...
Добавлено: 19 января 2024 г.
Григорьева А. А., Бергельсон М. Б., Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки 2024
Термин «аляскинский английский» (англ. Alaskan English; AE) относится к специфической региональной разновидности английского коренных жителей Аляски, ранее известной как Village English. Несмотря на то, что существует множество исследований, посвященных английскому языку как лингва франка и его разновидностям, аляскинская разновидность до сих пор не получила должного внимания со стороны научного сообщества. Аляскинский английский имеет ряд отличающих ...
Добавлено: 19 января 2024 г.
Тульчинский Г. Л., Слово.ру: балтийский акцент 2023 Т. 14 № 4 С. 8-30
Автор предпринимает попытку систематически представить смыслообразование с точки зрения прагмасемантического подхода. Его применение открывает возможность показать, как взаимодействуют основные факторы смыслообразования — социально-культурные практики и субъектность. Их взаимодействие нелинейно: субъектность является результатом усвоения социально-культурного опыта и сопровождающей коммуникации нарративного формата. Самосознание Я — это результат социализации личности в ее рефлексивном самоописании. Тем самым оно образует ...
Добавлено: 19 января 2024 г.
Тульчинский Г. Л., Политическая наука 2023 № 3 С. 151-169
Использование концепта власти на уровне общих понятий ведет к парадоксальности и противоречивости теоретических построений политической науки. Без власти индивиды не могут образовать общность, необходимую для достижения блага каждого из них, но при этом любая власть есть ограничение, подавление субъектности. Поэтому политическая власть предполагает формирование некоей смысловой картины мира, которая объясняет и оправдывает порядки, реализуемые этой ...
Добавлено: 19 января 2024 г.
Добавлено: 5 декабря 2022 г.
Балыкова А. А., Танис К. А., / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2022. No. 209.
Добавлено: 25 ноября 2022 г.
Медушевский А. Н., / Высшая школа экономики. Series PS "Political Science". 2021. No. WP BRP 78/PS/2021.
Добавлено: 4 апреля 2021 г.
Сизова И. А., / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2020.
Добавлено: 12 ноября 2020 г.
Tatiana Alexeeva, / Northwest University of Political Science and Law, China. Series на китайском языке "“Belt and Road” Legal Culture Dialogue / Chang’an e Roma dialogo tra culture giuridiche nella “Belt and Road initiative”". 2019.
Тезисы доклада демонстрируют универсализм римского права, выявляемый посредством анализа отсутствия противоречий между ius, моралью и религией, гармонии его элементов (прежде всего, ius naturale и ius gentium), наличия двух главных центров его развития (Рим и Константинополь), а также практичности, способствовавшей его распространению на Восток, вплоть до Китая. Универсализм как характерная черта римского права является и базовым принципом Нерчинского договора (1689), ...
Добавлено: 27 октября 2020 г.
Долин А. А., / Издательство «Гиперион». Серия ISBN 978-89332-338-2 "Вне серий". 2019.
Уникальное академическое издание духовной поэзии японского средневековья подготовлено одним из ведущих российских востоковедов профессором НИУ ВШЭ Александром Долиным. Впервые в истории мирового японоведения на примере творчества крупнейших поэтов прослеживается эволюция религиозных воззрений различных буддийских школ, отразившаяся во всем многообразии жанрово-стилистических особенностей стиха. Обширная историческая панорама, включающая шедевры пейзажной и медитативной лирики, воссоздает эстетическое мироощущение поэтов ...
Добавлено: 11 ноября 2019 г.
Шмакова А. С., / Новосибирский государственный университет. Серия история, филология "Вестник НГУ". 2019. № 19.
Аннотация
Данная статья посвящена анализу проблемы взаимосвязи образования субкультур и гибкой (бессвязной) идентичности южных корейцев, сформировавшейся под влиянием процессов модернизации и глобализации при сохранении конфуцианского ядра национальной культуры.
Особый конфуцианский тип общественного устройства Кореи, выработанный за период со Средних веков до настоящего времени, признает наличие различных, иногда противоречащих друг другу тенденций, требующих альтернативного функционирования культурных фильтров и ...
Добавлено: 22 сентября 2019 г.
Бессчетнова Е. В., / Basic Research Programme. Series HUM "Humanities". 2018. No. 170.
Добавлено: 21 ноября 2018 г.