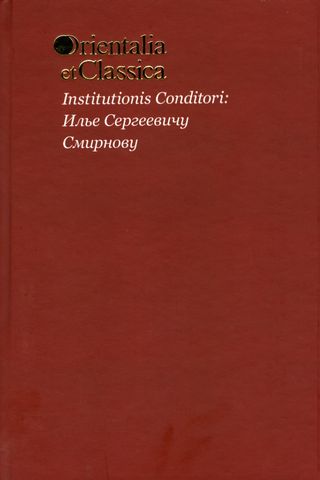?
Время стоиков и время персонажей Лукана
С. 356–369.
Время, в котором живут персонажи поэмы "Гражданская война" ("Фарсалия") римского поэта Лукана, сопоставляется с тем, как описывает время Сенека Младший.
Ребязина В. А., Сонина Л. А., Universidad de Sevilla, Servicio de Publicaciones, 2027.
Добавлено: 15 января 2026 г.
Михайловский А. В., , in: Über den Schmerz. Jünger Debatte Band 6Vol. 6.: Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2023. Ch. 6 P. 83–100.
Добавлено: 29 апреля 2023 г.
Грюнерт А., Аристей. Aristeas: Вестник классической филологии и античной истории 2022 Т. 25 С. 51–70
Метафорический язык философских и христианских текстов поздней античности довольно часто прибегает к медицинской образности, которая имеет психагогическую функцию и концептуализирует роль античной философии и христианства как учений, направленных на врачевание души. Особая распространённость такого восприятия философии и христианства проявляется в том, что медицинские метафоры в их разнообразных формах выражения встречаются в большом количестве как во ...
Добавлено: 31 мая 2022 г.
Бирюков Д. С., Scrinium: Journal of Patrology and Critical Hagiography 2021 Vol. 17 P. 335–348
Добавлено: 14 октября 2021 г.
Бирюков Д. С., Review of Ecumenical Studies 2019 Vol. 11 No. 3 P. 409–423
Добавлено: 14 января 2020 г.
Шумилин М. В., М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.
Монография посвящена представлениям о времени и отношениям персонажей со временем в поэме римского писателя Марка Аннея Лукана «Гражданская война» («Фарсалия») о войне между Помпеем и Цезарем. На эти представления предлагается посмотреть как на своего рода инверсию философии времени стоиков и, в частности, Сенеки Младшего. Такая перспектива позволяет дать внятные ответы на целый ряд вопросов, традиционно ...
Добавлено: 21 марта 2019 г.
Бирюков Д. С., Scrinium: Journal of Patrology and Critical Hagiography 2019 Vol. 15 No. 1 P. 143–162
Добавлено: 20 ноября 2018 г.
Шумилин М. В., Аристей. Aristeas: Вестник классической филологии и античной истории 2014 Т. X С. 132–150
В статье заново публикуются с уточнением текста и датируются три комплекта argumenta Лукана: argumentum первой книги из рукописи Bibliothèque de Saint-Omer 660 (его предлагается датировать XIV в. на основании параллелей с комментаторской традицией) и два комплекта argumenta, впервые опубликованные Г. Кортте, скорее всего по вёльфенбюттельской рукописи Herzog August Bibliotheck 125 Gudianus lat. (оба предлагается датировать ...
Добавлено: 20 сентября 2018 г.
М.: Изд-во РГГУ, 2013.
Сборник статей друзей и коллег профессора Ильи Сергеевича Смирнова, основателя и директора Института восточных культур и античности (ИВКА РГГУ) в честь его 65-летия. Китайская история и филология, исследования сокотрийского фольклора, описание жизни Будды, античная история и филология, а также перевод сонетов Шекспира - вот неполный перечень профессиональных интересов сотрудников ИВКА РГГУ. ...
Добавлено: 1 октября 2017 г.
Бирюков Д. С., Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы) 2014 № 2 С. 221–250
Я показываю, что в рамках учения свт. Григория Нисского развиваются две стратегии построения иерархии сущего: стратегия, предполагающая родовидовые разделения и «все существующее» в качестве вершины иерархии, и стратегия, предполагающая в качестве вершины нетварную природу. Далее я исследую тему иерархии сущего, развиваемую свт. Григорием в 8-й гл. трактата «Об устроении человека» согласно первой из различенных мною ...
Добавлено: 26 октября 2016 г.
Шумилин М. В., Аристей. Aristeas: Вестник классической филологии и античной истории 2012 Т. VI С. 188–205
Статья посвящена отсылкам к образу гомеровского Полифема (и других подобных ему мифологических чудовищ) в сцене аристии центуриона Сцевы из VI книги «Гражданской войны» Лукана (а также в других местах поэмы). В интересе Лукана к этой теме предлагается видеть намек на аллегорические трактовки ослепления Полифема. ...
Добавлено: 16 апреля 2013 г.