?
Не "комнатный писатель"
С. 5–8.
Сибирцева В. Г., Федяева Т. А.
В статье дана рецепция жизни и творчества известного петербургского детского писателя Александра Михайловича Гиневского.
Язык:
русский
В книге
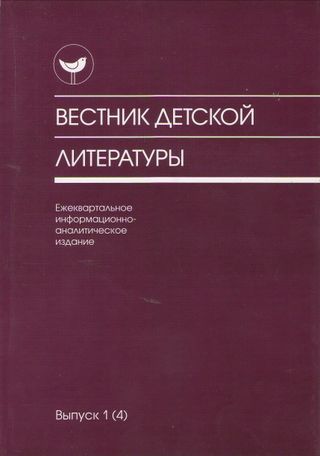
Вып. 1(4). , СПб.: Дума, 2012.
Егорова А. А., Детские чтения 2023 Т. 23 № 1 С. 299 – 331
В статье описаны адаптации романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфильд», выполненные на русском языке для детей. Основная цель работы заключалась в том, чтобы определить, менялись ли подходы к работе с романом в разные исторические периоды — в дореволюционные годы, во времена советской власти и в современной России. Для этого были проанализированы доступные на сегодняшний день переводы ...
Добавлено: 27 февраля 2026 г.
М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2024.
В монографии рассматривается творчество классика уральской и общерусской литературы XIX в. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Исследуются и описываются различные аспекты его художественного мира: аксиологическая и этическая проблематика, имеющие как универсальный, так и национальный характер, вопросы гео- и этнопоэтики, особенности нарративной организации текстов и художественного языка писателя, родословие Мамина и прикладные моменты его творчества, включая представление наследия писателя современной аудитории. Издание снабжено указателем произведений Мамина-Сибиряка. Книга предназначена для ...
Добавлено: 26 января 2026 г.
Баринова Е. В., В кн.: Компаративные филологические исследования: язык и литература.: Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2025. Гл. 3.1 С. 167–177.
В статье рассматривается литературная сказка Джеймса Джойса "Кот из Божанси" и два ее перевода на русский язык. Цель исследования – проанализировать трансформации не только текста сказки, но и сопровождающих его иллюстраций, и выяснить, насколько переводчик, художник и издатель отступают от оригинала и какие литературные и культурные изменения претерпевает текст. Авторы двух переводов сказки, А. Ливергант ...
Добавлено: 23 ноября 2025 г.
Баринова Е. В., Ананьина А. М., Брагина Э. Р. и др., Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2025.
В фокусе внимания авторов монографии оказываются вопросы теории и практики компаративных исследований как в языке, так и в литературе. Широкий методологический спектр представленных материалов дает достаточно полное представление о тенденциях функционирования компаративистики в современном мире. Особое место в книге уделяется проблемам подростковой литературы (young adult fiction). Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами разного рода ...
Добавлено: 23 ноября 2025 г.
Федоров А. О., Пантак Е. О., Тенденции развития науки и образования 2021 № 69-6 С. 70–73
Статья посвящена состоянию книжного рынка переводной литературы за 20172020 гг. В работе дан анализ статистическим данным Российской книжной палаты и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, проанализированы количественные показатели тиражей переводной художественной литературы во взрослом и детском сегментах, на основе которых сделаны выводы об увеличении интереса к переводной литературе и занимаемом ею месте в ...
Добавлено: 20 ноября 2025 г.
РОПРЯЛ, 2024.
Сборник включает тексты докладов и сообщений участников VIII Конгресса РОПРЯЛ (г. Красноярск, 10–14 сентября 2024 года), посвященных актуальным аспектам исследования русского языка и литературы. Особое внимание уделяется новым тенденциям в описании русского языка, вопросам взаимодействия русского языка и языков народов России, проблемам обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному, рассмотрению места региональной литературы в современном литературном процессе, а также применению искусственного интеллекта в обучении. Издание предназначено ...
Добавлено: 14 января 2025 г.
М.: ООО «Макс Пресс», 2023.
В сборник, подготовленный в рамках празднования 130-летия со дня рождения К. Г. Паустовского, вошли статьи, посвященные широкому кругу проблем, актуальных для современного этапа изучения наследия писателя: поэтике его рассказов и повестей, базовым концептам художественного мира, литературному и культурному контексту, рецепции творчества Паустовского. Впервые в научный оборот вводятся материалы из фондовых собраний Музея-квартиры А. М. Горького ...
Добавлено: 20 ноября 2024 г.
Тульчинский Г. Л., В кн.: Искусство советского времени: между официозом и подпольем.: М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2025. С. 44–58.
В статье рассматривается смыслообразование, эволюция и судьба антропологического идеала, который связан с советским периодом истории российской культуры. Рассмотрение ведется на материале отечественной художественной литературы, биографий политиков, деятелей культуры. Анализ опирается на концепцию «прагмасемантики», как комплекса и интерфейса смыслообразования во взаимодействии контекстов социально-культурных практик. Это позволяет проследить соотношение контекстов художественной культуры и социальных практик в динамике становления, ...
Добавлено: 10 ноября 2024 г.
М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2019.
Выпуск сборника научных трудов посвящён юбилею Галины Викторовны Якушевой, одного из ведущих учёных Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, доктора филологических наук, профессора кафедры мировой литературы. Сборник включает разделы: Часть I. Русское слово: язык и литература; Часть II. Мультикультурное пространство в восприятии русского слова; Часть III. Русское слово в мультикультурном мире: взаимодействие и взаимовлияние; ...
Добавлено: 30 октября 2024 г.
Соломонова А. А., В кн.: РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКАЯ КУЛЬТУРА В МИРОВОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.: ООО "Ваш формат", 2021. С. 226–230.
Часто при обращении к тому или иному произведению русских писателей мы сталкиваемся с тем, что иностранные студенты либо неправильно интерпретируют его основную идею, либо привносят в его понимание какой-то новый смысл, отличный от представления носителей русской культуры. В данной статье предпринята попытка выявить причины названных выше затруднений в процессе изучения русского языка иностранными обучающимися. ...
Добавлено: 30 октября 2024 г.
Соломонова А. А., Фатеев Д. Н., Июльская Е. Г. и др., М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2021.
Представленные методические разработки предназначены для студентов 1–2 курсов бакалавриата/специалитета, обучающихся по направлениям «Филология», «Педагогическое образование (русский язык и литература)», в учебный план которых включены историко-литературные курсы по русской литературе и русскому устному народному творчеству. Методические материалы не только позволят обучающимся (в том числе иностранным, владеющим русским языком не ниже уровня В1) эффективно подготовиться к практическим ...
Добавлено: 30 октября 2024 г.
Соломонова А. А., В кн.: Подготовка иностранных студентов-филологов в Институте Пушкина.: М.: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2022. С. 219–224.
В главе представлен фрагмент методической разработки к семинару в рамках курса "Современная русская литература", предназначенный для работы в группе иностранных студентов-филологов 4 курса бакалавриата. ...
Добавлено: 30 октября 2024 г.
Федотов А. С., Успенский П. Ф., Детские чтения 2024 Т. 25 № 1 С. 201–244
В статье анализируются два главных аспекта хрестоматийного детского стихотворения Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» (опубл.1871 г.) — педагогический и экологический. Как показано в работе, история спасения зайцев во время весеннего половодья задумывалась как наглядная иллюстрация экономически перспективной модели отношения социальных элит к русским крестьянам. Однако созданная история оказалась настолько яркой и необычной, что ...
Добавлено: 16 октября 2024 г.
Поселягин Н. В., Вайзер Т. В., Slavic Literatures (ранее - Russian Literature) 2024 Т. 144-145 С. 1–16
Во вступительной статье к тематическому блоку «Литература и публичная сфера» вкратце описывается, как предложенное Юргеном Хабермасом понятие «публичная сфера» адаптировалось к гуманитарным и социальным наукам. Адаптировалось оно в начале 1990-х годов в результате жарких международных полемик, альтернативных моделей публичной сферы в критике и частичного отхода от того семантического наполнения, которым его наделил Хабермас. Однако в ...
Добавлено: 20 июня 2024 г.
Девликамов Р. Т., Социологическое обозрение 2024 Т. 23 № 1 С. 382–389
В предлагаемой статье представлены размышления над новой книгой профессора, доктора философских наук В. К. Кантора «Россия как судьба», посвященной исследованиям в области философии русской культуры. В эпоху господствующего ценностного релятивизма и «двойничества» мысли автор ставит перед собой грандиозную задачу – по мере сил хранить реальный смысл культуры. В противовес симулякрам и софизмам, заполнившим, по мнению ...
Добавлено: 31 марта 2024 г.
Чабан А. А., Харитонов Д. В., Баженова-Сорокина А. Д., В кн.: Творческое письмо в России: сюжеты, подходы, проблемы.: М.: Новое литературное обозрение, 2023. С. 27–33.
В разделе "От составителей" дается характеристика сборника и описываются помещенные тут статьи, намечаются наиболее перспективные направления для изучения creative writing в России ...
Добавлено: 25 декабря 2023 г.
М.: Новое литературное обозрение, 2023.
Этот сборник вводит в российское поле гуманитарных наук новое научное направление — creative writing studies, в русской версии — «исследования литературного образования». Авторы затрагивают в своих статьях широкий круг проблем и тем, которые можно считать частью creative writing studies и которые помогают очертить границы направления: от педагогических практик, изучения писательских институций, вопросов статуса писателя и ...
Добавлено: 24 декабря 2023 г.