?
König und Kanzlist, Kaiser und Papst. Friedrich III. und Enea Silvio Piccolomini in Wiener Neustadt/Hrsg. von Franz Fuchs, Paul-Joachim Heinig und Martin Wagendorfer
Вена :
Böhlau Verlag, 2013.
Ответственный редактор: F. Fuchs, P. Heinig, M. Wagendorfer
Сборник посвящен королю (позже императору) Фридриху III Габсбургу (1440 - 1493), его секретарю, гуманисту Энеа Сильвио Пикколомини, будущему папе Пию II (1458 - 1464), и их окружению.
Главы книги
, , in: König und Kanzlist, Kaiser und Papst. Friedrich III. und Enea Silvio Piccolomini in Wiener Neustadt/Hrsg. von Franz Fuchs, Paul-Joachim Heinig und Martin Wagendorfer.: Wien: Böhlau Verlag, 2013. P. 281–305.
На основе архивных документов и других источников восстанавливается ход подготовки к погребению императора Фридриха III в 1493 г. ...
Добавлено: 14 марта 2013 г.
Научное направление:
История и археология
Приоритетные направления:
гуманитарные науки
Язык:
немецкий
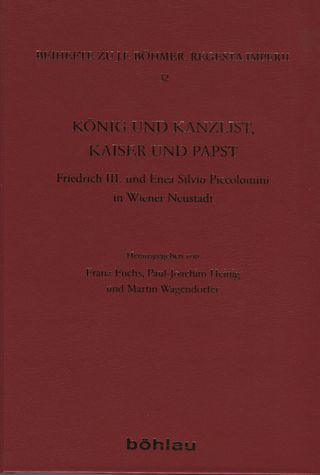
Гатин М., Абзалов Л. Ф., Мустакимов И. А. и др., Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья 2025 № 19 С. 490–501
Статья представляет собой исследование средневековых правовых памятников — ярлыков о назначении эмира ольке из трактата второй половины XIV в. «Дастур ал-катиб», написанного чиновником Мухаммедом б. Хиндушахом Нахчивани, которые впервые публикуются в русском переводе. На основе междисциплинарного анализа авторы предпринимают попытку характеристики статуса этого чиновника, а также выяснения специфики самой административно-территориальной единицы под названием «ольке». В ...
Добавлено: 1 января 2026 г.
Гусарова Е. В., Восток. Афро-азиатские общества: история и современность 2025 Vol. 5 P. 191–200
Добавлено: 29 декабря 2025 г.
М.: Московский педагогический государственный университет, 2025.
Сборник научных статей, подготовленный на кафедре истории древнего мира и средних веков им. В. Ф. Семенова Института истории и политики МПГУ, представляет избранные научные статьи, подготовленные по итогам Всероссийской научной конференции «Дьяковские чтения 2024». Сборник предназначен для историков, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. ...
Добавлено: 28 декабря 2025 г.
Махачкала: ИПЦ ДГМУ, 2025.
В сборнике опубликованы доклады научной конференции, посвященно 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. ...
Добавлено: 28 декабря 2025 г.
Мелентьев Ф. И., Quaestio Rossica 2025 Т. 13 № 4 С. 1452–1466
Рассмотрены представления об истории России старших сыновей императора Александра II, в частности, их отношение к образу императора Петра I. Скончавшийся в молодости цесаревич Николай Александрович (1843–1865) и великий князь Александр Александрович (1845–1894), который стал императором Александром III, росли в эпоху Великих реформ, когда исторические дискуссии об императоре Петре I приобретали общественно-политическое звучание, поэтому отношение великих ...
Добавлено: 27 декабря 2025 г.
Петрова Т. М., Quaestio Rossica 2025 Т. 13 № 4 С. 1367–1383
Рассматривается VI Пагуошская конференция как инструмент советской культурной дипломатии. На основе делопроизводственных документов и материалов советской прессы реконструируются процессы подготовки, проведения и репрезентации в СССР Пагуошской конференции. В 1960 г. конференция международного научного объединения сторонников идей разоружения и укрепления мира была впервые проведена на территории СССР. Она использовалась принимающей стороной как инструмент влияния на мировую ...
Добавлено: 27 декабря 2025 г.
Каз.: Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан, 2025.
Статьи охватывают широкий круг проблем истории, посвященных Улусу Джучи (Золотой Орде) и татарским ханства, а также Российскому государству, близких научным интересам юбиляра – известного исследователя истории средневековых татар, военного дела и этнокультурных процессов в Евразии. Книга предназначена для специалистов по истории Золотой Орды, татарских ханства и Московского царства, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется вопросами истории ...
Добавлено: 27 декабря 2025 г.
Афанасьева А. Э., Диалог со временем 2025 № 93 С. 339–347
В статье рассматриваются некоторые наиболее значимые подходы последнего времени в изучении истории эпидемий: исследование визуальных образов эпидемий, изучение культурных конструктов животных, ассоциируемых с распространением эпидемических заболеваний, глобальная история эпидемий и история эпидемий, анализируемая на микроуровне. ...
Добавлено: 26 декабря 2025 г.
Краснов М. А., Закон 2025 № 12 С. 185–200
Статья посвящена анализу изменений и дополнений, внесенных в октябре — ноябре 1993 года в проект Конституции РФ, одобренный Конституционным совещанием. Президент РФ Б.Н. Ельцин предполагал объединить этот проект с проектом Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР (РФ). Но после событий 2–4 октября 1993 года основой будущей Конституции Президент признал лишь один проект — одобренный Конституционным совещанием, однако поручил его доработать.
В проект было внесено довольно много ...
Добавлено: 25 декабря 2025 г.
Сон Ж. Г., Brill, 2025.
Эта книга представляет собой первое всестороннее исследование истории советских корейцев (1920-е – 1930-е годы), с акцентом на их опыт в СССР. В ней рассматривается влияние внешней и внутренней политики Сталина на советских корейцев, их роль в социально-экономическом развитии Дальнего Востока, их вклад в Красную Армию, а также культурные и образовательные аспекты их жизни. Ключевые темы ...
Добавлено: 25 декабря 2025 г.
Почекаев Р. Ю., Крымское историческое обозрение 2025 Т. 12 № 4 С. 129–143
В статье исследуются сочинения европейских современников (прежде всего, дипломатов и путешственников, побывавших в рассматриваемый период в Крымском ханстве и Османской империи) об особенностях статуса Гиреев с Османами в XVIII в. Проанализированы записки французских авторов – дипломатов и писателей А. де Ла Мотрэ, А. Яворки, Ф. Тотта, Ш.-К. де Пейссонеля, А. де Вержи дю Вернуа, Ш. ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Гатин М., Абзалов Л. Ф., Мустакимов И. А. и др., Крымское историческое обозрение 2025 Т. 12 № 4 С. 53–67
В статье предпринимается попытка выявления статуса некоторых золотоордынских чиновников, которые фигурируют в документах, касающихся истории взаимоотношений Золотой Орды с итальянскими колониями Крыма и Северного Причерноморья XIV–XV вв. (ханские ярлыки, договоры с Венецией и Генуей, Устав Кафы). Сравнивая полномочия чиновников, нашедшие отражение в этих документах и в других известных нам исторических памятниках, авторы уточняют названия некоторых ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Васильев П. А., Антропологический форум 2025 № 67 С. 287–296
Рецензируемая монография Кейт Клэнси призвана разрушить табу на обсуждение менструации, дестигматизировать тему месячных и развенчать мифы и стереотипы, сложившиеся вокруг этого феномена. Работая в русле социальных исследований науки, автор совмещает в повествовании исторические и современные перспективы, технический жаргон и внимание к широкому политическому и социокультурному контексту. Книга написана популярно и полемически, ориентирована на достаточно широкую ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Чеснокова Н. А., Восток. Афро-азиатские общества: история и современность 2025 № 6 С. 268–272
Монография «Бескрайние ветры империи: Риторика и ритуал в дипломатии между ранним Чосоном и Минским Китаем» историка-корееведа Ван Сысяна (PhD, профессор UCLA) – книга крайне важная, потому что предлагает новый подход к анализу отношений между Кореей и Китаем в средневековый период, а именно между корейской династией Ли, которая управляла государством Чосон, и китайской империей Мин (1368-1644). ...
Добавлено: 23 декабря 2025 г.
Аракчеев В. А., Российская история 2025 № 4 С. 24–37
Реформа Ордина-Нащокина осуществлялась в условиях длительного противоборства между группировками городского населения Пскова. Предполагалось, что в результате реформы будут созданы структуры самоуправления, подобные существовавшим в соседних городах Полоцке, Витебске и Смоленске. «Спусковым крючком» конфликта в процессе реформы стала инициатива, вводившая в Пскове акцизную систему производства и продажи алкоголя, подобную существовавшей в 1654–1667 гг. в этих городах. ...
Добавлено: 22 декабря 2025 г.
Настоящая монография посвящена исследованию роли судебной системы как инструмента интеграции периферийных регионов Российской империи в XVIII - начале XX века. В работе анализируется, как юстиция способствовала созданию единого правового пространства, адаптируясь к местным условиям. Особое внимание уделено судебной реформе 1864 г., которая, сочетая принципы унификации с региональной спецификой, стала ключевым механизмом имперской интеграции. Авторы раскрывают ...
Добавлено: 22 декабря 2025 г.
В книге представлены очерки о видных костромских историках, чья профессиональная карьера была тесно связана с Костромским государственным педагогическим институтом имени Н.А. Некрасова. Это
Михаил Иванович Синяжников (1916–1993), Константин Александрович Булдаков (1916–1999), Израиль Петрович Шульман (1918–2002), Михаил Никитич Белов (1923–1998), Алексей Константинович Шустов
(1924–2009) и Владимир Леонидович Миловидов (1931–2008). Настоящее издание подготовлено при грантовой поддержке администрации города Костромы. Авторы выражают признательность ...
Добавлено: 21 декабря 2025 г.
Долгова М. А., Вестник Томского государственного университета. История 2025 № 98 С. 34–43
Статья посвящена экономической стратегии фрейлины императорского двора Е.Н. Петрищевой в 1860–1870-е гг. по улучшению своего финансового положения за счет участия в неправомерных кредитных соглашениях с заимодавцами, искавшими места на гражданской или придворной службе. На основе секретной переписки между Министерством императорского двора и III Отделением С.Е.И.В. Канцелярии проанализированы порядок проведения недобросовестного частного кредитования, мотивации основных участников ...
Добавлено: 21 декабря 2025 г.
Гатин М., Абзалов Л. Ф., Мустакимов И. А. и др., Народы и религии Евразии 2025 Т. 30 № 4 С. 7–25
В статье прослеживается эволюция статуса раиса в мусульманских государствах в течение значительного временного периода, выявляются общие черты и принципиальные отличия этого института в разных государствах в различные эпохи. Авторы стремились выяснить, сохранялись ли общие элементы статуса раиса в различных исторических условиях. Основу исследования составляют исторические источники: ярлыки (указы) правителей, исторические сочинения, политические и делопроизводственные трактаты, ...
Добавлено: 20 декабря 2025 г.
Парсамов В. С., Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории 2025 № 4(48) С. 27–42
Политические проекты декабристов относительно будущего устройства России отлича- лись разнообразием, но при этом все они исходили из идеи установления республиканского строя в Рос- сии. Сложившаяся традиция противопоставлять конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Му- равьева как республиканский и конституционно-монархический является результатом перенесения на эпоху декабристов позднейших представлений. В системе политических воззрений первой четверти XIX ...
Добавлено: 19 декабря 2025 г.
Парсамов В. С., Новое литературное обозрение 2025 № 196 (6) С. 90–106
Декабризм как идейное течение представляет собой конструкт, создававшийся после восста- ния бывшими членами тайного общества, на основе «Донесения следственной комиссии». Полемика с «Донесением» велась в двух направ- лениях: юридическом и историческом. Первое было представлено Н.И. Тургеневым, который с опорой на европейский судебный опыт стре- мился доказать собственную невиновность, что на практике вело к отрицанию исторической ...
Добавлено: 19 декабря 2025 г.
Рязанов П. А., Лошкарева М. Е., Античная древность и средние века 2025 Т. 53 С. 355–372
В данной статье рассматриваются сообщения английских хроник об османской экспансии во второй половине XV в. Несмотря на то, что данные события происходили на самых отдаленных границах западнохристианского мира, английские хронисты считали необходимым проинформировать современников и потомков о самых важных эпизодах общехристианской истории – падении Константинополя в 1453 г., ставшей общехристианской трагедией, осаде Белграда в 1456 ...
Добавлено: 15 декабря 2025 г.
Главатских К. В., Средние века 2025 Т. 86 № 1 С. 93–119
«Книга в честь Августа» Петра Эболийского, написанная в 1194-1197 гг., относится к числу главных источников, которые проливают свет на осуществление политического проекта Генриха VI по объединению Сицилийского королевства с империей (unio regni ad Imperium). Сочинение рисует картину упадка королевства при Танкреде из Лечче: его правлению приходит конец вслед за триумфом правителя Священной Римской империи, несущего ...
Добавлено: 5 ноября 2025 г.