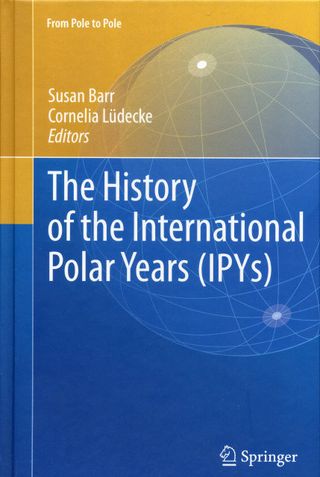?
The Second International Polar Year 1932 – 1933
P. 135–174.
Лайус Ю. А., Luedecke C.
М.: Русское общество истории и философии науки, 2025.
В книгу вошли статьи участников V Всероссийской научной конференции «Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, социуме», которая проходила 3–5 октября 2025 г. на базе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. На конференции рассматривались вопросы, связанные с философией, методологией и историей науки, философией сознания, демографии, а также проблемами научной экспертизы. Для исследователей, преподавателей, ...
Добавлено: 5 октября 2025 г.
Козлов А. И., Вестник Московского университета. Серия 23: Антропология 2025 № 1 С. 133–143
Введение. Анатомическая антропология – сложившееся в последней трети XIX века направление исследований изменчивости строения органов человека с учётом телосложения и расовой, этнической, социальной принадлежности.
Цель работы – рассмотреть историю развития анатомической антропологии с основным вниманием к этапам, которые привели к формированию концепции типовой и вариантной анатомии.
Материалы и методы. Очерк развития анатомической антропологии Рассмотрены публикации с 1857 ...
Добавлено: 26 марта 2025 г.
Puzachenko A. Y., Сандлерский Р. Б., Biology Bulletin 2023 Vol. 50 No. 2 P. S119–S131
В представленном сообщении мы попытались проследить этапы научного пути Юрия Георгиевича и выделить ключевые области его научного инте реса: организацию и функционирование сложных самоорганизующихся неравновесных систем – биогеоценозов и ландшафтов, различные аспекты биоразнообразия, отношения вида и среды. ...
Добавлено: 26 февраля 2025 г.
Сальникова С. О., Никифорова В. И., Турман Р. Л. и др., Вестник угроведения 2024 Т. 14 № Nº 4 (59). 2024 С. 775–786
Введение: В статье рассматриваются методы поддержки художественных промыслов, в том числе на примере финно-угорских ремёсел: Верхневычегодской росписи и узорного вязания Коми.
Цель: обобщение актуального опыта работы Научно-исследовательского института художественной промышленности по поддержке народных художественных промыслов.
Материалы исследования: материалы научных трудов и экспедиций НИИХП из архива Всероссийского музея декоративного искусства.
Результаты и научная новизна. На фоне глобализации и технологического ...
Добавлено: 10 сентября 2024 г.
Лифшиц А. Л., Святохина Е. В., В кн.: Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXXVI Всероссийской научной конференции с международным участием. Москва, 4–5 апреля 2024 г.: М.: ИВИ РАН, 2024. С. 220–221.
Тезисы доклада ...
Добавлено: 4 апреля 2024 г.
Marina Boykova, Князева Е. Н., Салазкин М. Г., Foresight and STI Governance 2023 Vol. 17 No. 4 P. 80–91
Вызовы, с которыми сталкиваются исследования будущего, характеризуются особенной сложностью, взаимосвязанностью, противоречивостью и не поддаются разрешению линейными подходами. Прогностическая наука нуждается в инструментах, соответствующих новой контекстуальной сложности, позволяющих охватывать гораздо больший спектр движущих сил и их потенциальных эффектов в нелинейной перспективе, чтобы повысить точность прогнозов и качество стратегий. В статье посредством ретроспективного анализа прогностической науки и ...
Добавлено: 25 января 2024 г.
Пузаченко А. Ю., Сандлерский Р. Б., Известия РАН. Серия биологическая 2023 № 8 С. 3–15
В представленном сообщении мы попытались проследить этапы научного пути Юрия Георгиевича и выделить ключевые области его научного интереса: организацию и функционирование сложных самоорганизующихся неравновесных систем – биогеоценозов и ландшафтов, различные аспекты биоразнообразия, отношения вида и среды. ...
Добавлено: 17 декабря 2023 г.
Карпенко Е. К., СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН; Скифия-принт, 2023.
Сборник материалов XLIV Международная годичная научная конференция Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и техники Российской академии наук «Будущее истории науки: исследования, преподавание, популяризация (к 70-летию СПбФ ИИЕТ РАН)». ...
Добавлено: 20 октября 2023 г.
Пущино: Фонд "Предприниматели за развитие города Пущино", 2021.
Сборник трудов Международных Четвериковских чтений ...
Добавлено: 13 мая 2023 г.
Muenster: Zaphon, 2023.
Добавлено: 15 февраля 2023 г.