?
Насильственный постриг княжеской семьи в Киеве: от интерпретации обстоятельств к реконструкции причин
Гл. 4. С. 135–169.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.
Галицкий князь Роман и постриженная им Предслава были правнуками одного и того же лица, и, следовательно, состояли в 6-ой степени кровного родства. Родители Предслава, Рюрик и Анна также приходились друг другу кровными родственниками в 6-ой степени, недозволенной для брака. Желая по политическим и династическим причинам расторгнуть свой брак, Роман воспользовался каноническим правом в качестве орудия для достижения своих целей инициировав постриг своей жены, тестя и тещи и заставил остальных русских князей признавать необратимость этого акта вплоть до своей смерти.
Язык:
русский
В книге
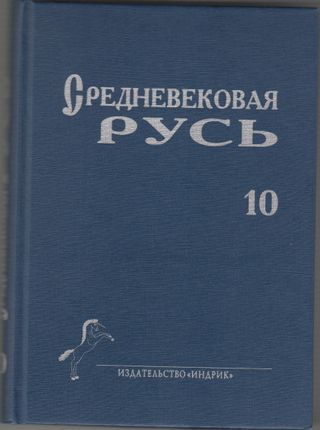
Вып. 10: К 1150-летию зарождения российской государственности. , М.: Индрик, 2012.
Почекаев Р. Ю., Золотоордынское обозрение 2017 Т. 5 № 3 С. 659–665
2017. Т. 5, № 3. Почекаев Р.Ю. ...
Добавлено: 13 февраля 2018 г.
Литвина А. Ф., В кн.: От текста к реальности: (не)возможности исторических реконструкций.: М.: Институт всеобщей истории РАН, 2012. Гл. 4 С. 112–120.
Действия князя Романа Мстиславича по отношению к семье своей жены являют собой первый на Руси образчик манипуляции брачным каноническим правом, когда одно и то же действие объявляется по мере надобности то допустимым, то строго запрещенным. Такая манипуляция служит одним из симптомов кардинальной перестройки всего династического обихода русских князей и системы наследования власти в целом ...
Добавлено: 12 марта 2013 г.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., Древнейшие государства Восточной Европы 2013 С. 299–325
Летописный рассказ о сватовстве князя Владимира к Рогнеде традиционно привлекает читателя богатством эмоциональных красок, фольклорных подробностей и межкультурных соответствий. При несомненном и наглядном драматизме изображаемой в летописи ситуации она обладает множеством подтекстов, отнюдь не все из которых уже введены в исследовательский оборот. Так, фабула этого эпизода во многом строится на оскорблении Рогнедой Владимира («не хочю ...
Добавлено: 16 марта 2014 г.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., Slovĕne 2015 Т. 4 № 1 С. 218–239
Статья посвящена тому, как в летописном нарративе могут изображаться именины русских князей или их приближенных. Особое внимание уделяется рассказам о недолжном, неподобающем поведении на именинах, своих и чужих. В работе рассматривается функция и характер такого рода эпизодов в более широком контексте историографического повествования.Статья посвящена тому, как в летописном нарративе могут изображаться именины русских князей или ...
Добавлено: 17 октября 2015 г.
Литвина А. Ф., В кн.: Летняя школа русского языка стран СНГ и Балтии, г.Минск, Республика Беларусь, 02 – 08 июля 2012 г.: Сборник материалов и научных работ.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. Гл. 6 С. 67–72.
В Скандинавии и на Руси в X-XIII вв. существовал строгий запрет на наречение ребенка именем живых прямых предков и требование называть детей в честь умерших предков. При этом мог использоваться принцип варьирования имени, когда имя потомка заключало в себе одну из основ двусоставного имени отца или деда. Имя дяди не находилось под столь строгим запретом, ...
Добавлено: 12 марта 2013 г.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., Древняя Русь. Вопросы медиевистики 2012 № 3(49) С. 45–68
Нарушение церковных правил в области брачного права в династическом обиходе домонгольской Руси носили неслучайный характер и опирались на так называемый «семейные прецедент», когда близкие потомки одного и того же лица считали возможным совершать действия, запретные с точки зрения канонического права. В тех случаях, когда микротрадиция семейных прецедентов входила в противоречие с общеродовой практикой династии, она ...
Добавлено: 24 января 2013 г.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., М.: Полимедиа, 2013.
Русскую историю второй половины XI — начала XIII в. попросту невозможно изложить без постоянного упоминания половцев. Взаимодействие с этими кочевниками, однако, не сводилось к прямому военному противостоянию. Рюриковичи с самого начала стремились использовать «атомную энергию» половецких кланов в собственной внутридинастической борьбе, не переставая, впрочем, время от времени объединяться в общерусских походах на половцев. При этом на протяжении многих ...
Добавлено: 9 марта 2014 г.
Куза В. А., Электронный научно-образовательный журнал "История" 2012 № 5(13)
Статья посвящена основным направлениям развития Новгород-Северского княжества и города Новгород-Северский. Сделана попытка синтезировать данные археологических материалов для проверки и дополнения информации летописных известий. ...
Добавлено: 27 ноября 2012 г.
Почекаев Р. Ю., , in: The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe.: L.: Routledge, 2021. Ch. 12 P. 249–266.
Добавлено: 18 октября 2021 г.
Золотая Орда и русские земли: юридические аспекты отношений (очерки по истории и антропологии права)
Почекаев Р. Ю., Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2022.
В книге исследуются проблемы правовых отношений Золотой Орды (Улуса Джучи) с русскими землями, включая выстраивание системы власти и управления (в отношениях с князьями и православной церковью), действия ордынских источников права на Руси, суда ордынских ханов над русскими вассалами. Отдельное внимание уделяется вопросам влияния ордынского правового наследия на последующее развитие российской государственности и права, а также ...
Добавлено: 14 сентября 2022 г.
Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б., В кн.: Именослов. История языка. История культуры.: М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012. С. 55–80.
В статье обсуждаются ранее не исследованные политические связи датских правителей с восточными и западными славянами в первой половине XII века, а также наделение прозвищем как символ десигнации будущего наследника высшей власти в стране. ...
Добавлено: 15 января 2013 г.